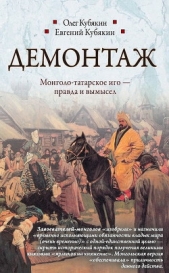Синтез целого

Синтез целого читать книгу онлайн
В книге определяются пути развития лингвистической поэтики на рубеже XX–XXI веков. При этом основной установкой является заглавная идея «синтеза целого», отражающая не только принцип существования художественных текстов и целых индивидуально-авторских систем, но и ведущий исследовательский принцип, которому следует сам автор книги. В монографии собраны тексты, написанные в течение 20 лет, и по их последовательности можно судить о развитии научных интересов ее автора. С лингвистической точки зрения рассматриваются проблемы озаглавливания прозаических и стихотворных произведений, изучается феномен «прозы поэта», анализируется эволюция авангардной поэтики с начала XX века до рубежа XX–XXI веков. Для анализа привлекаются художественные произведения А. Пушкина, Ф. Достоевского, В. Набокова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, Д. Хармса, Л. Аронзона, Е. Мнацакановой, Г. Айги и многих других поэтов и писателей XIX–XXI веков.
Книга имеет междисциплинарный характер. Она предназначена для лингвистов, литературоведов и специалистов широкого гуманитарного профиля.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вспомним, что «водяной знак» Лары, как пролившейся с неба любви, во время страшной грозы Юрий Андреевич видит вместе с мадемуазель Флери, упоминание о которой в романе в следующий раз будет связано со смертью Живаго в преддверии начинающейся грозы (часть 15, гл. 12). Этот «водяной знак» создает в тексте структурные параллелизмы, уподобляющие текст романа стихотворному:
«Они были уверены, что отворят парадное и в дом войдет так хорошо известная женщина, до нитки вымокшая и иззябшая, которую они засыпают расспросами, пока она будет отряхиваться. <…>.
Они были так уверены в этом, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице, в виде водяного знака этой женщины или ее образа, который продолжал им мерещиться за поворотом» (часть 5, гл. 9).
Я не буду специально останавливаться на том, что и вся главка 9 части 5 со значимым заглавием «Прощание со старым» пронизана звукописью при описании грозы, в котором перемежаются шипящие звуки (шум урагана, шум ливня, обрушивался на крыши, хлещущими потоками) и дрожащий «р», сопутствующий Флери (раскаты грома, без перерыва, ровное рокотание, сверкание) и вызывающий ее тревогу. Однако невозможно не сказать о том, что все эти звуки рождают еще один самый тревожный звук — «стук», который пронизывает все абзацы главки, и который слышится не только Флери, но и Живаго — этот «стук» будит Живаго, как впоследствии звук падающей во сне «маминой акварели итальянского взморья», когда Стрельников стреляет в себя. И как окажется, этот «стук» в Мелюзееве станет для Живаго не только предзнаменованием будущей любви, но и смерти.
И именно в сцене у гроба Живаго раскроется тайна «влажного» Лариного голоса, оплакивающего Юрия: «Казалось именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем» (часть 15, гл. 16). Так именно плакал и лепетал ветер в ночь, когда Живаго вспоминал жену и сына и Ларины слезы по Антипову-Стрельникову. «Шелковисто-влажные» звуки (буквально с-л-с-л-п-л-с-л-с-л-п-т-ш-л-с-т-ш-л-с-т-л-с-т-т-л-п) этого «голоса-лепета» могут быть даже сложены в осмысленную последовательность «слышал лепет и тепло» (а лепет бывает прежде всего у младенцев) и характеризуются в романе как «разламывающие рамки реальности» и «не имеющие смысла», «как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения» (часть 15, гл. 16).
Сама же текстовая реальность построена в романе также необычным образом, поскольку в ее центре находятся «герои», которые принято называть «метонимическими». Это определение находим в статье Р. Якобсона «Заметки о прозе поэта Пастернака», который считал, что пастернаковский «лиризм, в прозе или поэзии, пронизан метонимическим принципом, в центре которого — ассоциация по смежности. <…> первое лицо отодвигается на задний план. Но это лишь иллюзорное пренебрежение „мной“ („я“): вечный лирический герой, несомненно, здесь. Его присутствие стало метонимическим» [Якобсон 1987: 329]. Вслед за Якобсоном многие исследователи творчества Пастернака (М. Окутюрье, А. Юнггрен и др.) отмечают особый тип его героев, занимающих центральное место в повествовании и заменяющих собой сюжет. Это созерцатели, служащие композиционно объединяющей единицей повествования и отраженные в природном мире так, что неясно, кто является субъектом, а кто объектом действия. Именно поэтому в пастернаковском романе Живаго становится «неотличимым, необнаружимым в калейдоскопе луней и листьев, точно он надел шапку-невидимку» как раз в тот момент, когда он хочет понять: «Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества?» (часть 11, гл. 8).
Говоря о звуковой организации текста, мы уже отмечали, что «звуки», «голоса», «стуки», «знаки» существуют в романном пространстве как бы сами по себе, они также могут принадлежать ветру, дождю, грозе и только потом соотноситься с определенными действующими лицами романа. В романе «Доктор Живаго» понятие «метонимического героя» осложнено еще и тем, что заглавный его герой является поэтом, который переносит свои внутренние переживания непосредственно в стихи, составляющие заключительную часть романа. Однако скорее можно говорить о том, что прозаический корпус романа «Доктор Живаго» является некоторым автокомментарием по отношению ко всему стихотворному творчеству самого Пастернака.
Данную мысль подтверждают так называемые «близнечные тексты», варьирующиеся по оси «стих — проза» и отличающиеся внутренним семантическим и структурным подобием. Так, можно увидеть сходство в том, каким образом женский образ возникает в сознании лирического героя «Сестры моей жизни» и героя романа «Доктор Живаго». Уже сам эпиграф к книге стихов («Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в движении бури мне видятся, девочка, твои черты». Ленау (нем.)) содержит в зародыше «водяной знак» любимой и подчеркивает божественное, небесное происхождение любви и творчества, которые возникают на небе, как гроза. Этот эпиграф определяет и метонимическое происхождение женского образа, который привносится поэтическим «Я» из глубины памяти по «частям» в момент расставания: ср. далее: «И память — в пятнах икр и щек, и рук, и губ, и глаз» («Не трогать», «СМЖ»), Подобный же облик Девочки возникает в сознании Живаго в романе, когда он прощается с Ларой, отпустив ее с Комаровским: «Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока ты еще на руках и губах моих, я побуду с тобой <…>. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания…» (часть 14, гл. 15). В романе находим и объяснение происхождения такого образа как второго «Я» поэта, растворенного во всем окружающем мире: «Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого, и потом навсегда служит и кажется ему внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем, и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. „Лара!“ закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся передним, солнцем озаренному пространству» (часть 11, гл. 7).
Особенностью организации романа является и то, что все его главные герои не существуют раздельно: они то и дело неожиданно оказываются в одних и тех же местах или, даже существуя параллельно, взаимно отражаются друг в друге как части целого мира. Тем самым роман приобретает циклическую композицию, и образность становится «сквозной тканью существования» прозаического текста за счет повторяющихся мотивов, обусловленных «субъектной многозначностью слова» (В. В. Виноградов). Мы уже наблюдали, как различных героев связывает лейтмотив «грозы» и «дождя». Точно так же все основные персонажи оказываются взаимосвязанными через мотивы «выстрела», «метели» и образ «лестницы», соединяющей небесное и земное и служащей символом любви между мужчиной и женщиной.
Поэтичность романа подкрепляется тем, что в нем за внешней фабулой скрыто мифологическое начало, которое и способствует формированию циклических кругов, основанных на сквозном противопоставлении и отождествлении жизни, смерти, рождения и любви. Причем все мифологические проекции сопоставлены с истерическими и метонимически замешают целостные ситуации и события: так, например, бой Георгия со змеем в стихотворении «Сказка», центральном стихотворении живаговского цикла, выступает как инвариант разрешения всех сюжетных противоречий романа.
И точно так же, как в повести «Выстрел» Пушкина «по смысловым вехам» движется история «выстрела», с которой начинается цикл повестей Белкина (что прекрасно показал В. В. Виноградов в работе «Стиль Пушкина» [1941]), и в романе Пастернака «выстрелы» образуют «заколдованный круг», замыкающийся на Антипове, взявшем себе «смертный псевдоним» Стрельников. Первый раз Паша Антипов появляется в романе на фоне «серо-свинцового» неба, первая его игра — игра в войну; «Мальчики стреляют, — думала Лара. <…> Хорошие, честные мальчики, — думала она. — Хорошие, оттого и стреляют» (часть 2, гл. 18). Следующий «выстрел» связан с Ларой, которая «с особенным увлечением состязалась в стрельбе в цель». Она же задумала «стрелять» в своего змея-искусителя Комаровского: «Задуманный выстрел уже грянул в ее душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что он сознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в самое себя, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке [139] с вырезанной в его стволе стрелковой мишенью» (часть 3, гл. 7). На самом же деле «выстрел», который прогремел в рождественскую ночь у Свентицких и свидетелем которого стал Юра Живаго, прежде всего по символическому кругу был направлен в Антипова. Его превращение в Стрельникова-Расстрельникова связано со «змеем поезда» — аналогом дракона в «Сказке». В результате Стрельников стреляет в себя около дома-символа, связанного с историей семьи Живаго и его любовью к Ларе. Из этого дома увозит Лару Комаровский, который охарактеризован Ларой как «чудище заурядности». И только он один остается в живых после смерти Живаго и самоубийства Антипова. Таким образом, мотив «неосуществленного выстрела» из пушкинской повести срабатывает в «Докторе Живаго», но с «промахом»: вместо Комаровского, на которого покушалась Лара, но промахнулась, он попадает в Стрельникова.