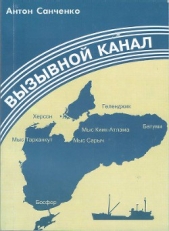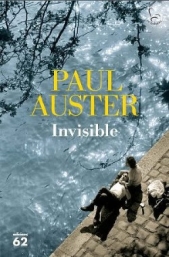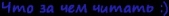Такой способ понимать

Такой способ понимать читать книгу онлайн
Петербуржец Самуил Лурье — один из лучших российских эссеистов, автор книг «Литератор Писарев», «Толкование судьбы», «Разговоры в пользу мертвых», «Успехи ясновидения» и других. Его новая книга — это хорошо выполненная мозаика из нескольких избранных произведений и отдельных литературных тем, панорама, собранная из разноцветных фрагментов литературы разных эпох.
Взгляд Лурье на литературу специфичен, это видение, скорее, не исследователя-литературоведа, а критика, современника, подвластного влиянию поэтики постмодернизма. Взгляд беззастенчивый, восхищенный, но и не признающий личностных авторитетов классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Акакий Акакиевич не слыхивал подобных рассуждений. Он вполне разделяет гипотезу своих сослуживцев, «что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове», что он от рождения ничтожный и смешной. Потому они его и дразнят (как будто рождены для этих скверных забав), потому он и терпит. Дескать, на роду так написано. Как сказал бы Городничий, закон судеб. И читатель повести «Шинель» мог страницей раньше воочию удостовериться, как этот закон непреложен. Разве не на глазах у читателя появилась на свет эта забавная и жалкая фигурка? Разве не доказали только что, и пренастойчиво, читателю, что предопределены от века и судьба, и характер, и наружность Акакия Акакиевича, что даже неблагообразное (хоть и с благородным внутренним значением) имя свое он носит «совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно»? (Вот он, последний — да еще последний ли? — смысл, иронический, конечно, той пресловутой страницы.)
И, пожалуй, рассмешил бы незадачливый герой доверчивого читателя, если бы не глянуло из повести на них обоих еще одно лицо — «один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться» над своим чудаковатым коллегой, но — «вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом свете».
Узнаете ли вы этого молодого человека, занимающего вакансию писца в Департаменте уделов? Если не ошибаюсь, у Гоголя нет других автопортретов; этот, с Башмачкиным, — единственный. И, за исключением воспоминаний Аксакова, это единственное изображение, где Гоголь, хоть и закрывшись рукою, смотрит прямо на нас:
«И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: „Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?“ И в этих проникающих словах звенели другие слова: „Я брат твой“. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья…»
Марья Ивановна Гоголь осмелилась однажды в письме назвать обожаемого Никошу гением. Надо признаться, ей порядком досталось от почтительного сына. Изъявления восторга он переносил еще хуже, чем упреки, советы и насмешки; ведь в похвале таится самонадеянность: кто восхищен, тот не сомневается, что понял. Но чем дороже Гоголю был его замысел, тем несовершенней казалось ему исполнение; пропасть эта с каждым днем все раздвигалась, и он не верил, что его могут понять как должно, и терзался от непонимания, и оскорблялся претензией на понимание:
«…Не судите никогда, моя добрая и умная маминька, о литературе… Знаете ли вы, в какой можно попасть просак… Знаете ли, что в Петербурге, во всем Петербурге, может быть, только человек пять и есть, которые истинно и глубоко понимают искусство, а между тем, в Петербурге есть множество истинно прекрасных, благородных, образованных людей. Я сам, преданный и погрязнувший в этом ремесле, я сам никогда не смею быть так дерзок, чтобы сказать, что я могу судить и совершенно понимать такое-то произведение. Нет, может быть, я только десятую долю понимаю. Итак, не говорите о ней. Если вас спросят — отвечайте, но отвечайте односложно и переменяйте тотчас разговор на другое».
Какое чудное правило! Прямо золотое.
ЗОЛОЧЕНЫЕ ШАРЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную.
Ханс Кристиан Андерсен прожил семьдесят лет и написал пятьдесят томов. Романы, поэмы, пьесы, очерки стяжали ему европейскую славу. Все они забыты. И сказки Андерсен сочинял во множестве, однако лишь некоторые из них прекрасны. Век прошел, и собрание сочинений превратилось в тоненькую книжку для детей.
Но эти шедевры дошкольной литературы — не все, что осталось от Андерсена. Он создал свой жанр, вернее — образ жанра. Сказка Андерсена — это не только «Дикие лебеди», «Принцесса на горошине» или «Тень». Сказка Андерсена — это сцена воображения, населенная нарядными фигурками, уставленная занятными вещицами, — и музычка разбитая бренчит, летают аисты и ангелы, не умолкает взволнованный тенорок рассказчика, — и обязательно торжествует справедливость!
Берутся любые существительные, и с помощью нескольких самых необходимых глаголов разыгрывается в лицах нехитрая схема судьбы.
«Сначала надо отыскать действующих лиц, а потом уж сочинять пьесу; одно ведет за собою другое, и выходит чудесно! Вот трубка без чубука, а вот перчатка без пары; пусть это будут папаша и дочка!
— Так это всего два лица! — сказала Анна. — А вот старый мундирчик брата. Нельзя ли и его взять в актеры?
— Отчего же нет? Ростом-то он для этого вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него пусто — вот уж и интересная завязка: тут пахнет несчастной любовью!»
Сказку можно сложить из любых пустяков. Остроумие и фантазия легко свяжут их нитями банальной житейской истории. Пусть вещи ссорятся и женятся. Люди и куклы различаются только размерами, а домашние животные — переносчики сюжета.
И вот фабула достигает иносказательного правдоподобия. Оловянный солдатик влюбляется в бумажную танцовщицу. Фарфоровая пастушка убегает из дому с фарфоровым трубочистом.
Это не повествование, а игра. Нам протягивают руку, приглашая участвовать. Правила такие: мир прозрачен насквозь. Вообще отменяется всякая непроницаемость, нет глухих стен и неслышных мыслей, нет неодушевленных предметов, вся природа говорит человеческим голосом, пространство и время не представляют препятствий.
Теперь, используя эти льготы, а также прибегая по мере надобности к вмешательству Случая и Неба, сказка установит справедливость в любых предлагаемых и придуманных обстоятельствах. В этом — смысл игры и пафос Андерсена.
Не колдовской оборот от горя к счастью, не победа лукавой доблести над враждебной и нечистой силой, — о, нет! Андерсен решает фабулу как моральное уравнение: награда соответствует заслуге, возмездие — проступку, будущее героя отражает его прошедшее, как следствие — причину. Все держится законом сохранения душевной теплоты.
В школе на уроке физики показывают опыт: если на листе бумаги рассыпать железные опилки, а снизу поднести к листу магнит, — с мгновенным шорохом бесформенная кучка разойдется в округлый, правильный узор.
Магнит Андерсена — человеческое сердце. Жизнь переигрывается наново. Усилием веры, модуляциями голоса исправляет сказочник беспорядочный ход событий. Поэтому его так легко принять за доброго волшебника. И мы видим Андерсена героем пьесы Шварца или новеллы Паустовского: бесстрашный, беззащитный, мудрый мечтатель.
Но, сколько можно судить, он скорее походил, особенно в молодости, на Вильгельма Кюхельбекера — то есть на тыняновского Кюхлю. Странная внешность; неуклюжие манеры; ребячливые выходки, в которых добродушие перемешано с исступленной верой в высокое предназначение.
Они были почти ровесники — Андерсен лет на пять моложе. С годами сходство прошло: слишком разнились обстоятельства и судьбы. Кюхельбекер порою впадал в отчаяние и бешенство, Андерсен — в уныние. Вильгельм Карлович вечно пылал то любовью, то враждой, а Ханс Кристиан провел жизнь в прохладе себялюбивого целомудрия: путешествовал и сочинял; отвлекался, не увлекаясь.
(Говорят, одна шведская дама, певица по имени Йенни Линд, раз навсегда — году так в 1840 — объяснила ему, что в страсти человек хуже чем одинок: одинок смешно; что взаимность сохраняется только при умеренной температуре.)
Кюхельбекер и Андерсен были оба романтики: один был недоволен собой и целым миром, другой хотел нравиться всем и безусловно веровал: провидение шествует об руку с прогрессом.
Он на собственном опыте убедился, что мечты сбываются, что человека окружает настоящий заговор добрых!