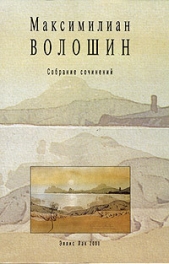Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пародист постоянно превращает объект описания в языковой стиль, в котором является призрак времени, или, вернее, напластования времен, входящих в состав всякого времени. Это постоянное соскальзывание от пространственно локализованного тела к стилистической конфигурации эпохи в полной мере представлено в излюбленной приговской фигуре Милицанера. Милицанер — это фигура, описание которой неизменно переходит от его физического тела к полной абстрактности дискурса власти, поэтому он начинается как земное существо, а кончается как небесный Милицанер, чистое дискурсивное ничто. Пригов пишет, что «Он государственность есть в чистоте, / Почти что себя этим уничтожающая!» (ЖВМ, с. 147).
«Чистота государственности» уничтожает земное тело, оставляя вместо него лишь стилистическое понятие. В «Живите в Москве» описано убийство Милицанера уголовниками, пораженными слепотой: «И вот они, попущенные этим злом и наделенные невероятной слепотой, дабы не иметь сомнений и не ослабеть перед его величием и блеском, не различали в нем Милицанера, а видели только глупое, неловко движущееся человеческое тело. Сочленение человеческих частей и органов, как бы даже равное им в их мелкой телесной бессмысленности, не продолжавшейся ни в какую запредельность» (ЖВМ, с. 145). Пародист тем и отличается от этих слепых, что он способен видеть астральное тело речи.
Различение предмета и его стилистического инобытия ведет у Пригова к различению типа и реального лица. Писатель неоднократно использует в своих текстах имена конкретных лиц, часто своих друзей, но эти реальные люди преобразуются стилистикой в нечто совершенно нереальное: «…реальные люди — не совсем реальные, даже совсем не реальные» (СПКРВ, с. 70), — замечает он о своих героях. Подлинные имена нужны ему именно для разведения стиля и предмета, разведения особенно ощутимого, когда речь идет о старых знакомых: «По законам же поэтики, мной избранной, мои герои вынуждены принять позы, им, возможно, не свойственные в той резкости и ограниченности, которые им навязала поэзия поучений и деклараций…» (СПКРВ, с. 70).
Тип — это реальный человек, пропущенный сквозь призму «стилистики» и утративший свои индивидуальные черты. Он становится выражением эпохи и ее дискурса. Майкл Риффатерр заметил, что некие эмблематические имена (вроде Самсона Силыча Большова или Подхалюзина из «Свои люди — сочтемся!» А. Н. Островского) обнаруживают свою принадлежность области вымысла, являются, по выражению Риффатерра, «знаками вымышленности» (signs of fictionality). И в силу своей откровенной оторванности от реалистической ориентации «указывают на правду, неуязвимую для недостатков мимесиса или читательского ей сопротивления» [187]. Способность таких имен являть правду опирается на то, что они относятся не к живым людям, но к типам. Эмблематическое или типическое способно соотноситься с правдой только в силу трансцендирования индивидуального.
Тип выходит за рамки реалистических ситуаций и утверждает истинность в риторическом пространстве. Но риторические ситуации часто оказываются довольно причудливыми. Пригов пишет:
Обстоятельства, в которые попадают наши типические с переизбыточностью герои, с виду нетипические. Но надо заметить, что характеры попадают в неестественные для обыденной жизни обстоятельства стиха, что сразу предполагает некоторую, допущенную в культурном обществе, условность проявления типических обстоятельств. Скажем, они попадают в обстоятельства псевдотипические. Хотя и сам стих в данном случае не совсем типический (СПКРВ, с. 76).
В качестве примера странных обстоятельств Пригов указывает на типичное для структуры стихотворения «развертывание текста по вертикали» (СПКРВ, с. 77), с которой начинают соотноситься типы. Оппозиция вертикаль/горизонталь [188] очень важна для Пригова. Милицанер, например, прямо определяется им как фигура, существующая по вертикали:
Он обычно смотрится вертикальным. То есть, конечно, он не есть вертикален каким-то необычным образом, отличным от иной попавшейся в глаза вертикали, особенно антропоморфной. Нет. Но он по внутренней сути своей вертикален. Направлением снизу вверх в восхождении, редукции. И сверху вниз в нисхождении, эманации (ЖВМ, с. 122).
Сфера языка разворачивается у Пригова по горизонтали, а сфера стилистики — по вертикали, и в этом он как будто следует Ролану Барту, вводившему сходную оппозицию, хотя и в ином контексте [189].
Советское риторическое пространство полно типов, которые возникают из самой стилистики текста, их порождающего. Кроме Милицанера, это, например, Морячок, Солдат и Пожарный — героические типы пропагандистской риторики. И эти типы проходят у Пригова через многие годы. В 2000 году он пишет:
Милицанер опять вставал в своем вертикальном образе, окруженный самыми разнообразными сущностями и существами. Скажем, летящим неведомо куда — от Москвы в самые неведомые края — Морячком. Ползущим по поверхности земли, прикрытым редким кустиком и неровно вырытым окопом Солдатом. К нему подскакивал, весь красный, дышащий жаром, только что вырвавшийся из-под земли, с горящими глазами, Пожарный (ЖВМ, с. 148).
Любопытно, что Пригов говорит в связи с этими риторическими типами о «сущностях и существах» (он обращается к этому различию неоднократно, в частности в «Ренате и Драконе»). Сущности и существа — термины средневековой схоластики. Они проникают в христианскую философию от Авиценны, различавшего (в латинском переводе) res и ens. Это различие в схоластике превращается в различие между сущностью (essentia) и существованием (existentia). Оно связано с двойным пониманием слова esse — с одной стороны, как сущности, как того, чем является вещь, как «чтойности» этой вещи, если использовать принятый сейчас русский философский термин. С другой стороны, esse может относиться к существованию вещи. В схоластике это разделение имело особое значение в контексте представления о тварности мира. Только в Боге признавалась неразделимость сущности и существования, так как Бог — это бытие-само-по-себе, ни от кого не зависящее, а потому «сущностно» существующее. Поскольку все сотворенные вещи получают существование от творца, то, как считал, например, Фома Аквинский, существование добавлено к их сущности в качестве акциденции, но не является непременной частью этой сущности. Отсюда возможность мыслить сущности несуществующих вещей. Сущность как бы обладает автономностью от существования. Когда Пригов говорит о Милицанере, что он окружен «сущностями и существованиями», он указывает на несвязанность таких риторических типов, как Морячок или Пожарный, с императивом существования. Эти персонажи — чистые умозрительные сущности, которые могут быть определены, но могут не существовать. В этом пребывании в виде сущности, собственно, и заключается их природа. Переход от предмета к риторическим фигурам — это и есть переход от существования к сущностям, для которых бытие — это только случайный атрибут.
Но уже начиная с Аверроэса раздавались голоса, утверждавшие, что и в сотворенных предметах существование неотделимо от сущности. Аверроэс утверждал, например, что «человек» как имя, чтойность и «акт бытия человеком» идентичны [190]. Существование часто понимается в Средние века в категориях аристотелевской energeia, актуальности, деятельности. Существование возникает через акт творения, который сам по себе есть жест актуализации, деятельности. Франсиско Суарес, как и Аверроэс, считал, например, что нельзя проводить реального различия между существованием и сущностью, потому что невозможно проводить различие между сущностью и действительностью, ведь именно в акте бытия, в energeia, вещь конструируется как действительная, а не как чистая неопределенная потенция dynamis’а, как ничто. Иными словами, только в деятельности возникает сущность вещи. Вещь, согласно Суаресу, может пониматься как имя, но «даже если слово ens берется в смысле имени (sumptum nominaliter), связь с „глагольностью“ бытия не утрачивается окончательно» [191], иными словами, аспект деятельности не отделим от сущности (чтойности). Поскольку действительность — actualitas — «отсылает к деятельности некоего неопределенного субъекта» [192], как пишет Хайдеггер, она не является вещью. «Действительность, — суммирует Суареса Хайдеггер, — не принадлежит realitas, вещности сотворенного в той мере, в какой эта вещность мыслится сама по себе. Но, с другой стороны, действительное не мыслимо без действительности, хотя при этом вовсе не утверждается, будто действительность сама есть действительное» [193].