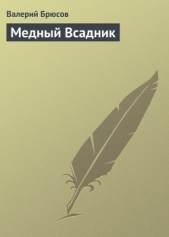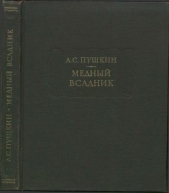Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный Всадник»
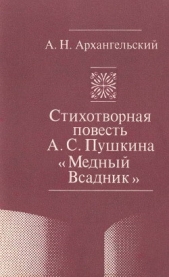
Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный Всадник» читать книгу онлайн
В пособии анализируется поэтика «Медного Всадника», одного из самых художественно совершенных произведений А.С. Пушкина последнего периода его творчества: неповторимые особенности жанра, стиля, сюжета. Художественный мир повести предстает в неразрывном единстве формы и содержания. Произведение включено в контекст пушкинского творчества 1830-х годов. Книга дополнена Приложением, содержащим выдержки из работ о «Медном Всаднике» В. Белинского, П. Анненкова, Д. Мережковского, В. Брюсова, Б. Энгельгардга, А. Белого, В. Ходасевича, Л. Пумпянского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оба стихотворения слились в эпитете «чудный»; сумасшедший заслушивается звуком «чудных» грез; в первоначальном тексте Евгений оглушен:
Эта тревога стала просто «внутренней» в окончательной редакции; мы знаем, что оглушали «мятежные ветра» (несколькими строками ранее); и действие «мятежных ветров», отзыв на них «чудной» тревогой (т. е. трепетом надежды на свободу) не мог оставить Пушкина, «зубы стиснув, пальцы сжав».
Соедините в одну картину эти штрихи душевного состояния Пушкина в эпоху поэмы — и вам станет ясным отстранение императорской темы: сведение ее к «заупокой».
Пумпянски й Л. В
«Медный Всадник» и поэтическая традиция XVIII века
В «Медном Всаднике» ясно различаются три стилистических слоя: 1) одический, которому и посвящена эта работа; ему принадлежит уже само словосочетание «Медный Всадник»; 2) онегинский (например, описание современного Петербурга); 3) совершенно новый для Пушкина, так сказать, беллетристический; на него намекает подзаголовок («петербургская повесть»), (…) Оба действующих лица драмы отмечены своей, для каждого резко различной, стилистической окраской. Почему же в одном случае (для Петра) Пушкин действует, обращаясь к традиции? (…) Потому что русская ода XVIII в…была поэзией государственной власти и ее носителей. (…)
(…)
Где прежде… ныне там…
…Невольно создается впечатление, что Пушкин цитирует устойчивую формулу, согласно принципам староклассической поэмы, настолько прочно закрепленную за темой, что в литературном сознании XVIII в. теме сопутствует, с почти принудительной силой сцепления, готовая выработанная формула. Повествовательная страница Батюшкова [85] возникла из ослабления этой формулы. Пушкин же возвращается к ней через голову Батюшкова и реставрирует ее в строгой первоначальной форме.
[Далее приводятся примеры из од С. Боброва 1797, 1802, 1803 гг.; указывается, что формула «где прежде… ныне там» зародилась еще у Ф. Прокоповича, в оде Ломоносова 1742 г. на прибытие Елисаветы Петровны из Москвы, у Тредиаковского, Сумарокова, Державина и др.]
(…) Как можно, наперекор хронологии, говорить в 1833 г. «прошло сто лет»? Естественно возникает предположение: Пушкин и здесь цитирует готовую, установившуюся формулу, выработавшуюся в юбилейный год.
[Автор статьи называет возможные источники: оду Боброва 1803 г. и — особенно — поэму Мерзлякова «Полтава», 1 § 27 г., где есть не только «сто лет прошло», но и стих — «из тьмы лесов, из топи блат».]
(…) Стих Пушкина является в некоторой мере ссылкой на готовую формулу. (…)
(…)
Далее укажем на онегинские реминисценции… характерно, насколько онегинские смысловые, строфические, ритмические, фразеологические и иные особенности перенасыщают именно вторую часть вступления. См.: Пишу, читаю без лампады… громады… светла… игла. Смысловые повторения. (…)
Неслучайно именно в этой части вступления повторена тема белой ночи из «Е.О.», тоже типичная онегинская тема. (…)
Итак, за первой, «одической», непосредственно следует вторая, онегинская, часть вступления. (…)
Такова поразительная двусоставность вступления! Как ее объяснить? Вопрос связан с более общим вопросом о функции одизмов во всей повести в целом, а для его решения необходимо исследовать одизмы исторически более значительные, чем те, о которых шла речь до сих пор.
Выпад против графа Хвостова имеет гораздо большее значение, чем это могло бы показаться на первый взгаяд. (…)… Ирония как раз свидетельствует о связи, хотя бы и отдаленной. Будь ода Хвостова (1824) вне всякой связи с «Медным Всадником», Пушкин в 1833 г. вообще забыл бы о ее существовании.
(…)
В дальнейшем речь пойдет не об искомом одическом прототипе пушкинского наводнения. В тесном смысле слова, его нет. Прототипом была общая «классичность» темы и долгая традиция ее неоднократной трактовки в классической поэзии.
(…) «Гнев реки», вслед за Горацием, всегда можно было литературно осмыслить как яростную месть речного божества, пременившего за вину города… благость на грозный, разрушительный гнев (…)
[Далее автор пишет о сближении горацианской оды о потопе с изображением всемирного потопа у Овидия в «Метаморфозах»: I, 98; Пулькин в своей повести следует обеим традициям. Но изображение наводнения переложено Пушкиным на беллетристический, в основе онегинский язык]
(…) Но рядом — державинский стих -
и стих архаистический:
Получается равнодействующая двух стилей. Побеждает бытовая, онегинская традиция, но архаистическая подоснова темы всплывает в эпизоде, заключающем описание (царь на балконе). (…) В оде «Провидение» (1794, I, 80) [у Державина] Екатерина с балкона Эрмитажа видит на льду готовой вскрыться Невы утопающую; посланные ею люди спасают ее. Пушкин беллетристически модернизирует бытовой словарь (у Державина: «с высоты»; у Пушкина: «на балкон»; у Д.: «летят крылаты серафимы, усердьем пламенные слуги»; у П. «генералы»)… ясно, насколько условная характеристика царя на балконе резко расходится с действительным мнением Пушкина о «плешивом щеголе». Между тем здесь: «со славой правил… и в думе скорбными очами…», да еще в величественном окружении: одиноко высящийся среди потопа дворец. (…) Почему все это? Потому что переплавляется одическая тема, стилизуется важная составная часть старой оды, т. е. происходит условное использование традиционного стиля.
(…)
Итак, ночное явление Петра [Евгению] представляет чрезвычайно сложную переплавку нескольких соединенных одических тем, из которых каждая имела до Пушкина самостоятельную историю.
Это: 1) явление фальконетова всадника, разработанное в оде 1760–1790 гг… 2) явление монарха «ошибающемуся» подданному, восходящее к монархическому педагогизму феодально-вельможеской поэзии; 3) явление грандиозной фигуры, героической, либо мифологической, в ночной оссианической обстановке. (…)
(…)
Пушкин сливает темы, которые до него существовали и полстолетия развивались независимо. Следовательно, для него эти темы те же и заодно не те. (…) Возвращение Пушкина к XVIII в. — явление совсем того качества, нежели архаизм — и старший, и младший. Это архаизм, если угодно, двусмысленный, и выражает он ведущее противоречие всего развития Пушкина в 30-е годы. Пушкин безбоязненно может почти дословно цитировать традиционно сложившиеся словосочетания (формулы: «грома грохотанье»; «мгле — челе» и мн. др…): все равно, извлеченные из двумерного, введенные в стереометрическое пространство, они не будут «узнаны». Действительно, не «узнал» одического материала повести ни Белинский, ни Достоевский, ни Брюсов.
В переосмыслении литературных образов функция играет ту же ведущую роль, что и в переосмыслении слов, а функция пушкинской повести определяется не эпохой, создавшей державинскую оду, а реальными противоречиями русской истории 30-х годов XIX в.
(…)
Окончательное решение функционального вопроса привело бы нас к выяснению места одизмов внутри самой повести. А это выходит за пределы нашей работы, потому что ведущим моментом повести являются не одизмы, а, упрощенно говоря, Евгений. Евгений же, по-видимому, воспринят Пушкиным из буржуазно-городской повести 30-х годов, из урбанистической беллетристики.