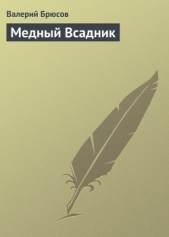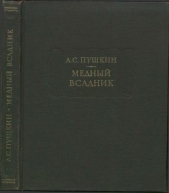Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный Всадник»
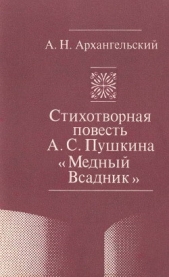
Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный Всадник» читать книгу онлайн
В пособии анализируется поэтика «Медного Всадника», одного из самых художественно совершенных произведений А.С. Пушкина последнего периода его творчества: неповторимые особенности жанра, стиля, сюжета. Художественный мир повести предстает в неразрывном единстве формы и содержания. Произведение включено в контекст пушкинского творчества 1830-х годов. Книга дополнена Приложением, содержащим выдержки из работ о «Медном Всаднике» В. Белинского, П. Анненкова, Д. Мережковского, В. Брюсова, Б. Энгельгардга, А. Белого, В. Ходасевича, Л. Пумпянского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
3. «Примирение» недаром в корневом родстве с «умиротворением». Пафос, пронизывающий «Пир Петра Первого», неизбежно вызывает жанровую ассоциацию с идиллией, которая медленно, но неуклонно проступает сквозь полупрозрачный слой одической темы стихотворения. В «Пире Петра Первого» идиллична не только интонация рассказа, но — что важнее — сама позиция рассказчика. Кто он? Как Пушкин моделирует его образ? Заметим, просторечие здесь всерьез выступает в роли высокого одического стиля: «В Питербурге-городке» (хотя орфография требовала «в Петербурге»). Все в «Пире Петра Первого» увидено одновременно и пушкинским умудренным взглядом и глазами простосердечного «человека из народа», которому ничего не стоит не услышать тавтологии в сочетании «Питербург-городок» («бург» и есть «город», «крепость»), ибо название столицы неразложимо для него на составные немецкие корни.
«Примирительной» идиллии «Пира Петра Первого» — в отличие от рушащейся идиллии «Медного Всадника» — ничто не угрожает: она основана на прочном фундаменте человечности. Впрочем, такая возможность была предусмотрена и в «петербургской повести», но там ей не суждено было осуществиться, стать действительностью. И тут настала пора вернуться к еще одному звену идиллического сюжета повести, связанному с «Рыбаками» Гнедича. Звено это образует тот самый выделенный пробелами отрывок Вступления «Люблю тебя, Петра творенье…», где, как помним, Пушкин открыто выразил свою позицию, свое мироощущение, свое понимание истинных взаимоотношений между личностью и государством, между природой и городом. Если взглянуть на образы этого отрывка сквозь призму «Рыбаков», то обнаружится, что прежде всего перекликаются между собой описания петербургских ночей, полусумрачных, полупрозрачных.
У Гнедича:
У Пушкина:
Велик соблазн сделать из этого сопоставительного ряда, где общим оказывается не только переживание «смещенного» петербургского времени, не только световой эффект описания, но даже и его цветовая гамма — золото небес, отчетливо выделенное на фоне полупрозрачного воздуха, — вывод о нескрываемо-«идиллическом» идеале Пушкина, контрастно противопоставленном «одическому» началу предшествующего отрывка («(…) // Как перед новою царицей // Порфироносная вдова»).
К подобному выводу подталкивает и очевидно личностный, субъективно-поэтический принцип пушкинского словоупотребления, выбранный здесь и выделяющий в мире все изменчивое, неуловимое, мгновенное: задумчивость ночей, безлунность блеска, недвижность воздуха… Узорные ограды, прогулки, наслаждение полнотой бытия: чтением, балами, холостой пирушкой — все это приметы «частной», выведенной за рамки государственной сферы жизни. Интересная деталь: используя едва ли не единственную выпадающую из общего идиллического настроя и явно тяготеющую к одической торжественности строку Гнедича «Шпиц тверди Петровой, возвышенный, вспыхнул над градом», — Пушкин возвращает ей утраченную мягкость, субъективность: «..и светла // Адмиралтейская игла». Да и авторская сноска, сопровождающая именно стихи 43–58, отсылает нас к художественному опыту П. А. Вяземского, в свою очередь также — пусть полемически! [79] — связанному с «Рыбаками» Н. И. Гнедича.
Но при этом описание частного мира дано у Пушкина в оправе из державных образов, воссозданных поэтическим словом, тяготеющим к весомой точности оды:
В этом месте Пушкин находит единственно возможный путь перерастания «одического» импульса в «идиллический», и, значит, идеал его не «умиротворение», свободное от государственного величия, но именно возможность проникновения одного в другое, проницание одного другим. В следующей строке — «Твоих оград узор чугунный» — речь также пойдет о материале (гранит → чугун), и пока читатель будет следить за чисто внешним описанием, поэт незаметно заведет разговор о том, что воплощено в этом материале. Ибо одно дело — державно сковывающие стихию реки гранитные берега, и совсем другое — чугунные решетки садов с тенистыми и уединенными уголками. Точно так же, исподволь, поэт переключает свой текст из одного жанрового регистра в другой, когда настает время вернуться в одическую тональность: после слов о голубом пламени пунша вполне естественно звучит рассуждение о «воинственной живости» потешных «Марсовых полей». Мы даже не успеваем уследить, как и когда Пушкин окончательно переводит тему в «высокий план», ведь «однообразная красивость» — образ, в равной степени могущий выражать и «частное» восхищение, и «державный» восторг. Но переход на новые позиции совершен; поэт восклицает: «люблю» —
Здесь и далее воспроизводится перечислительный ряд тем канонической оды (на рождение «порфирородного отрока», на «взятие» и т. д.), который станет ведущим приемом в «Пире Петра Первого». Но — и тут Пушкин ставит перед читателем еще одну жанровую загадку — в тот же ряд встает вдруг, без всякой паузы, весна, которая могла служить темой сентименталистской (ср. у М. Н. Муравьева: «Ода десятая. Весна»), однако никак не классицистической оды. А ведь именно на последнюю сознательно сориентированы все предшествующие строки. Тем не менее текст есть текст:
Ликование весны соотнесено и с ликованием народа, узнавшего о рождении будущего своего главы, и с духовным подъемом, вызванным военной победой. Жанры перетекают друг в друга; происходит как бы «снятие» оды через идиллию, а идиллии через оду. Сферы человеческого бытия оказываются взаимопроницаемыми; любовь поэта объемлет собой весь мир в его двойственном проявлении — общем и частном. Ибо в том и заключен основной сюжетный конфликт повести (а значит, и его жанровый «конфликт»), что бытие распалось на противостоящие друг другу начала — великое и малое, общественное и гражданское, одическое и идиллическое. Пушкин же не с одой и не с идиллией. Он — как повествователь — над ними и лишь вынужден пользоваться масками: «одического витии», воспевающего несуществующее величие Всадника, и «идиллика», передающего жизнеощущение «бедного» Евгения.
Необходимо воссоединение разошедшихся сфер человеческой жизни. Таков идейный и жанровый итог «Медного Всадника», в скрытой форме выраженный еще до начала развития основного действия — в авторском монологе. Между прочим, в этом «предваряющем итоге» впервые появляется имя Петра: царю как бы возвращается его индивидуальность. Жизнь самой Истории не знает различия между «высоким» и «низким», а победа весны так же важна, так же «исторична», как и победа над врагом.