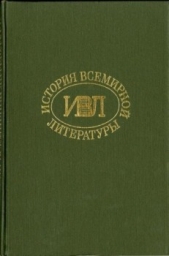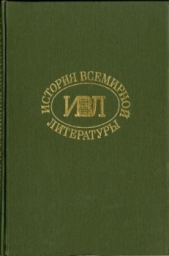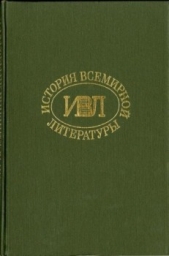История всемирной литературы Т.6
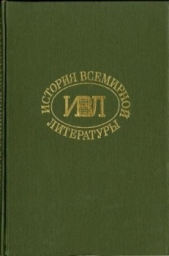
История всемирной литературы Т.6 читать книгу онлайн
Шестой том «Истории всемирной литературы» посвящен литературному процессу первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во второй половине 20-х годов заметно возрастает популярность прозаических жанров — явление, которое воспринималось современниками чуть ли не как окончательное вытеснение стихов прозой. В 1836 г. Белинский в статье «Ничто о ничем...» констатировал: «Пора стихов миновала в нашей литературе; наступила пора смиренной прозы». Слова эти прозвучали, конечно, излишне категорично, что объяснялось и недооценкой многих поэтических явлений (лирика Пушкина 30-х годов, Баратынский, Тютчев, философская поэзия бывших любомудров и т. д.), и незнанием полного объема русской поэзии. Тем не менее вывод об эффективном развитии прозаических жанров, о том, что проза — знамение времени, был справедлив.
Обычно переход к прозе отождествляется историками русской литературы с переходом к реализму, и это действительно так, если принимать в расчет логику художественного развития. Но логическое развитие не во всем совпадает с действительной полнотой живого процесса и многообразием его форм. Особенность прозы 20—30-х годов — в ее недвусмысленной романтической направленности, в том, что движение к реализму осуществлялось через развитие и углубление романтических моментов.
Говоря более конкретно, выработанное и открытое в других жанрах (прежде всего в лирической и лиро-эпической поэзии, в поэмах байроновского и пушкинского типа) проза переносила на новый материал. При этом некие романтические универсалии (какие — мы поясним позже) вступали в конфликт с новооткрытыми сферами жизни, и это взаимодействие имело далеко идущие последствия.
Вспомним, как обстояло дело раньше. В лирике романтическая коллизия развертывалась во внебытовой, интимной сфере; в поэме — в экзотической колоритной сфере естественной национальной жизни (Кавказ, Крым, Бессарабия, Финляндия, стан волжских разбойников и т. д.) или в столь же экзотической колоритной сфере стилизованной истории (Украина периода русско-шведской войны; восстание уральских казаков и т. п.). Удаленность, окраинность, дистанция «предела» («Так муза, легкий друг мечты, к пределам Азии летала...» — Пушкин, «Кавказский пленник»), «предела» территориального или исторического, являлись непременным условием возникновения романтического мира. Впрочем, романтическая же поэма — в двух по крайней мере случаях — принялась за «одомашнивание», осовременивание, иначе говоря, изменение материала — «Чернец» Козлова с центральным персонажем — крестьянином и «светские» поэмы Баратынского «Бал» и «Наложница»; последние уже близки к «светским повестям».
Проза решительно продолжила эти усилия. В прозе романтизм завоевывал себе новые «сферы влияния», новые жизненные пласты, как бы испытывая и удостоверяя свою универсальную действенность. В прозе тематический диапазон, новизна предмета изображения и его современность, знакомость, будничность — это факторы эстетические. Знаменательно, что широкая классификация русской прозы (повести и рассказа) по тематическому признаку начинается именно с конца 20-х годов, с периода романтизма: светская повесть, повесть о художнике, чиновничья повесть, народная повесть и т. д. Исподволь складывалось и понятие «светская повесть» — то как тематический корректив («картина из светской жизни» — подзаголовок к «Елладию» Одоевского, 1824), то как указание на манеру, вкус («кажется... в светском вкусе», — писал Марлинский о своей повести «Испытание», 1830). Белинский, правда, в известном споре с С. П. Шевыревым в 1836 г. название «светская повесть» решительно отверг, но лишь потому, что опасался сужения литературы — этого общенародного, общенационального дела — до светской тематики, светской «эстетики», наконец, до одной светской избранной элитарной читательской аудитории. Но это не мешало ему видеть все значение светского материала для развития русской литературы — значение, вытекавшее из некоторых особенностей отечественной истории.
Свет — легкомысленный, пустой («и даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой» — Пушкин), лицемерный, завистливый, тщеславный, развратный и т. д. Но в то же время в дворянстве и в его верхушке — «свете» — в определенный период — «почти исключительно выразился прогресс русского общества» (Белинский). Пороки света порождены цивилизацией, но и достоинства его вытекают из того же источника. «Разнообразие страстей, тонкие до бесконечности оттенки чувств, бесчисленно многосложные отношения людей, общественные и частные — вот где богатая почва для цветов поэзии...» Это сказано, правда, Белинским по поводу «Евгения Онегина». В романтической прозе внутрисветские отношения людей резче, определеннее, «грубее», поскольку они подчинены антитезе центрального персонажа и окружения, фона, в данном случае — светского. Это еще не внутрисветские «многосложные отношения», но противостояние одного или нескольких избранных людей косной массе. «Поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты?» — с укором спрашивал Бестужев творца Онегина.
Сам А. А. Бестужев-Марлинский (1797—1837) как автор светских повестей поступал именно так: он ставил, скажем, Правина (во «Фрегате „Надежде“», 1833) или Стрелинского (в «Испытании») в «контраст со светом», проводил между ними резкую черту. Если романтические герои и порочны, то на свой лад: они не делят предрассудков и увлечения толпы; «холодность» (в которой был уличен Онегин) уступала место горячности и страстности, доводящей до конфликта со средой, порою до преступления и окончательного разрыва. Не было недостатка и в «резком злословии»: не только повествователь, но и сами герои сыплют эпиграммами, источают инвективы против света. «Ах, как мне надоели эти попугаи, с белыми и черными хохлами на шляпах... Они, кажется, покупают свои фразы вместе с перчатками...» — говорит княжна Вера во «Фрегате „Надежде“», передавая свои впечатления о великосветском маскараде.
И все же в повести «Фрегат „Надежда“» Марлинский заверял: «О, поверьте мне: светская жизнь имеет свою поэзию...» Заверение не ироническое: просто в слово «поэзия» вкладывается многообразный смысл. Ведь такие, как Правин, — тоже питомцы света — это поэзия отпадения и противостояния. Но поэзия света — это и «поэзия порока», в которой блеск и красота, женская красота в первую очередь, таят в себе подернутое дымкой порочности, но, увы, неотразимое очарование. Наконец, это и поэзия зла: разбуженные светским соперничеством, воспитанные цивилизацией гибельные страсти достигают такой сосредоточенности и постоянства, что превращаются почти в надличную инфернальную силу. Поэзию зла остро чувствовал В. Ф. Одоевский (1803—1869), создавший образ княжны Мими, героини одноименной повести (1834). Вдохновительница светских интриг, неумолимая в своей ненависти, неистощимая в искусстве преследования очередной жертвы, княжна Мими оказывается полномочным представителем того «безымянного общества», которое «держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев», которое «ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести». Словом, перед нами почти демоническая персонификация зла, его высшая — или одна из высших — инстанция.
Бывают описания, сквозные образы, особенно показательные для литературной эпохи. Для 20—30-х годов, прежде всего для светской повести, таким образом является бал. Образ этот имел свое прошлое и будущее: традиции его уходили в глубь мирового искусства, а развитие не оборвалось в 20-е или 30-е годы прошлого века. Но мы упоминаем этот образ, так как своей глубиной он обнажил различные пласты смысла, отличающие интересующую нас эпоху.
Бальзак, видевший в бале «отражение всего общества» («Супружеское согласие»), свет в миниатюре, с вдохновением поэта воспевал обаяние бальной стихии, с хладнокровием естествоиспытателя разлагал ее на составные части. «Атмосфера была накалена вином, наслаждениями и речами. Опьянение, любовь, бред, самозабвение были в сердцах и на лицах» — таков бал в «Шагреневой коже», где круговорот и смешение тел, вещей и предметов вызывают к жизни новые, еще небывалые существа, где таинственная пелена скрадывает обыденное и земное, где оживают сновидения, грезы; где над всеми, казалось, властвует неумолимая сверхъестественная сила...