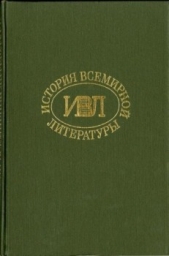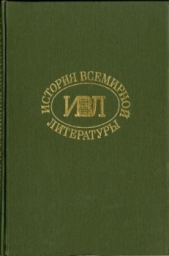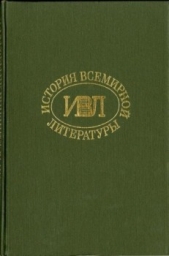История всемирной литературы Т.6
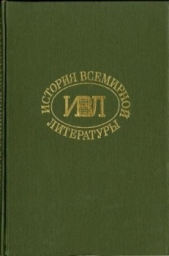
История всемирной литературы Т.6 читать книгу онлайн
Шестой том «Истории всемирной литературы» посвящен литературному процессу первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Три поэмы Баратынского («Эда», 1824—1825; «Бал», 1825—1828; «Наложница», 1829—1831) также принадлежат переходной второй половине 20-х годов. Расширение и укрупнение творчества влекло к большому жанру, каким — «формой времени» — была романтическая поэма. Автор сам называл свои поэмы романтическими («Наложницу» даже «ультраромантической»), ими он выходил на авансцену литературной жизни, от которой болезненно чувствовал себя удаленным. Он при этом хотел «идти новою, собственною дорогой», не подражая «ни Байрону, ни Пушкину», как он объяснялся по поводу «Эды», однако в итоге трех опытов (особенно последнего) мог бы повторить также сказанное по поводу «Эды»: «Я желал быть оригинальным, а оказался только странным!» Итогом этого стал чрезвычайно чувствительный неуспех «Наложницы», которой он придавал самое серьезное значение, и сознательное оставление поприща поэмы.
В «Бале» и «Наложнице» романтическая «поэтика контрастов» сгущена в самом деле до «ультраромантического». В то же время позиция автора не сбалансирована, что делает поэмы «странными», как бы экспериментально-романтическими. Эту раздвоенность в отношении к героине почувствовал Пушкин в «Бале»: «Напрасно поэт берет иногда строгий тон порицания, укоризны, — писал он в наброске статьи об этой поэме, — напрасно он с принужденной холодностью говорит о ее смерти, сатирически описывает нам ее похороны и шуткою кончит поэму свою. Мы чувствуем, что он любит свою бедную страстную героиню». Раздвоенность автора сказывается в непримиренном соединении рискованного «имморализма» (напряженный интерес-влечение к «свободным» характерам и их нравственно-экспериментальному поведению, отношение к ним, которое Пушкин назвал «болезненным соучастием») с резким морализмом, вместе с шокирующим физиологизмом описаний (умершей Нины), сатирой и эпиграммой (похороны ее, концовка поэмы).
Тема двух главных поэм Баратынского — возрождение падшей души. Автор подчеркивал «романтизм» и значительность характера своего Елецкого, отмежевывая его от «прозаического» (на взгляд романтиков 20-х годов) пушкинского Онегина: «Онегин человек разочарованный, пресыщенный; Елецкий страстный, романтический. Онегин отжил, Елецкий только начинает жить... Онегин неподвижен, Елецкий действует». В виде романтических поэм Баратынский создал своего рода мистерии падения и возрождения, борьбы мрака страстей и света любви в душе человека. Но героизм сюжета в то же время парализован и охлажден предопределенной заранее обреченностью этого порыва к возрождению: карма греха и падения обращает возрождающуюся любовь в возмездие и «казнь», предопределенную заблуждениями «судьбину», над которою не дано возобладать человеку.
В предисловии к поэме автор пользуется теологическими аргументами, ссылаясь на Провидение. Однако господствующая в поэме непросветленная карающая «судьбина» без возможности спасения ближе к судьбе языческой, чем к христианскому Провидению; действующему герою не дано прорвать ее кольца. Отсюда и в эстетической теории автора (в предисловии) с теологическими аргументами парадоксально соединяются положения как бы позитивистские, натуралистические, наводившие исследователей на аналогии с будущими статьями Золя об экспериментальном романе (известна роль фаталистического детерминизма в таком романе): в литературе надо видеть «науку, подобную другим наукам, искать в ней сведений», «истины показаний», а не «положительных нравственных поучений»: «что истинно, то нравственно». Нечто вроде фаталистического оцепенения перед «показаниями» поэмы представляет и позиция ее автора, порождающая известное отчуждение его от героев, что и отражено в этой одновременно романтически-иррациональной, нравственно-суровой и натуралистически-холодной эстетике.
Распутье конца 20-х — начала 30-х годов сказалось у Баратынского разнообразием замыслов, проб и планов. Как и поэмы (в сущности, тоже пробы, при всем их самостоятельном интересе), все эти опыты направлены на выход из элегического «уединения», на творчество в новых и крупных формах, и все приносят лишь изолированные и малые результаты. Как Пушкина в свое время, его «клонит к прозе», что приносит лишь небольшую повесть «Перстень» (1831), к критике и журнальной полемике. Почти все эти опыты выполнены для журнала И. Киреевского «Европеец», правительственное запрещение которого в начале 1832 г. стало тяжким ударом для Баратынского и отозвалось упадком деятельности и углублением «уединения». Уединенная же умственная жизнь в письмах «другу в поколеньи» — Киреевскому (1829 — середина 30-х годов) — замечательно интенсивна и показывает стремление к широким теоретическим построениям. В то время когда в России впервые обсуждаются эстетические проблемы романа, Баратынский дает в ряде писем 1831 г. свой набросок теории романа, исходящей из «современных требований». «Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени» оттого, что были в своих романах либо «спиритуалистами», либо «материалистами». «Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом». Речь идет о задаче, как раз в это время решавшейся европейским романом, задаче синтеза двух линий, в значительной мере обособленно развивавшихся в истории романа предшествующих двух столетий — «экстенсивной» и «интенсивной», романа «внешнего» и «внутреннего» действия, авантюрного и психологического.
Сердцевины творческих волнений поэта касается письмо-отклик (лето 1832 г.) на сообщение Киреевского о гражданской поэзии Гюго и Барбье («Ямбы», 1831), рожденной событиями Июльской революции 1830 г. «Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма; это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас... Что для них действительность, то для нас отвлеченность. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение».
Итак, «новая поэзия» — а потребность в ней составляет предпосылку этого размышления — должна быть «поэзией веры». Спорили о том, разумеется ли под верой религиозная или же — по контексту судя — общественная, энтузиазм политический. Очевидно, так широко названо одушевление сверхличными идеалами, поскольку противопоставлена поэзии веры поэзия индивидуальная. Последняя же мыслится связанной с исторически промежуточным состоянием «безверия», «разуверения», также, по-видимому, и религиозного, и общественно-политического (после 1825 г.). Но и эта поэзия не дает удовлетворения и наводит на мысль о принципиальном отказе вообще от поэзии. В конце того же 1832 г. Баратынский так мотивирует этот отказ в письме к Вяземскому: «Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело» (т. е., видимо, время «поэзии веры» еще не созрело). Впереди, однако, были «Сумерки».
Поздняя поэзия Баратынского была создана в этом осознанном вакууме и стала исторически крупным его выражением. Отказавшись от эпических проб и большого жанра, поэт «углубляется в себе» и на этом пути, не покидая тесной рамки своей лирической формы — своей самобытной элегии, необычайно ее изнутри содержательно расширяет. Совершается то, что тогда же описано Мельгуновым: возведение личной грусти в общее значение и перерастание в элегию современного человечества. Как это происходит, можно видеть на стихотворении «Болящий дух врачует песнопенье...» (1834), первый же стих которого воспроизводит до неузнаваемости преобразованную ситуацию «Разуверения», «Ропота» и других «эротических» ранних элегий — врачеванье «больной души»: на месте последней теперь, однако, «болящий дух», и врачует его не женщина, а «песнопенье»; таковы герои новой поэзии Баратынского. Конкретная ситуация любовного общения преобразуется в чистую мысль, притом «широкую»: «болящий дух» — категория эпохальная, характеризующая современное человечество, век (ср. «Наш век» Тютчева, 1851). Но душевная конкретность и драматичность скрыто присутствуют в новой духовной ситуации, и чистая мысль не перестает быть поэтической.