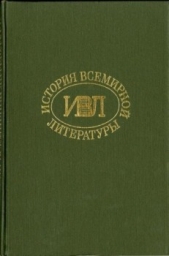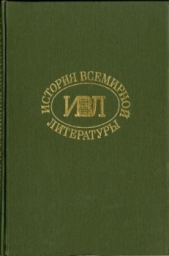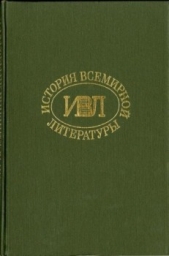История всемирной литературы Т.6
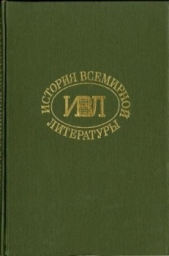
История всемирной литературы Т.6 читать книгу онлайн
Шестой том «Истории всемирной литературы» посвящен литературному процессу первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этом разгадка все увеличивающегося числа переводов Пушкина на языки мира, растущего интереса к его творчеству.
БАРАТЫНСКИЙ
Судьба Евгения Абрамовича Баратынского (1800—1844) в пору полной творческой зрелости, «высших звуков» (30-е — начало 40-х годов) — судьба «последнего поэта» пушкинской поэтической эпохи. В 1842 г. Белинский писал, откликаясь на позднюю и заветную книгу поэта «Сумерки», о «ярком, замечательном таланте поэта уже чуждого нам поколения». Для Белинского в 40-е годы поэзия Баратынского была безнадежно отставшей от быстрого хода времени — как историческим пессимизмом своей философии, так и своей архаической поэтикой.
Но и в раннюю пору ярких успехов «певца Пиров и грусти томной», в 20-е годы, он также «отставал», по общему мнению, от ведущего литературного движения, означавшегося широко и разноречиво понимаемым термином «романтизм». «Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком», — писал Дельвиг Пушкину 10 сентября 1824 г., и это суждение было типичным. «Французская школа» означала рационализм и классицизм, воспринятые из французской литературы предшествовавшего столетия традиции дидактической и эпикурейской поэзии. С. Шевырев, рецензируя первый сборник Баратынского 1827 г., подчеркнул дидактический тон и формальный блеск («желание блистать словами», «щеголеватость выражений»), заключив, что «его можно скорее назвать поэтом выражения, нежели мысли и чувства».
Среди судей и критиков Баратынского на поворотном для него рубеже 20—30-х годов были, однако, двое, отказавшиеся оценивать его с точки зрения оппозиции классицизма и романтизма и не прилагавшие к нему этих понятий, — Пушкин и Иван Киреевский. Крупная самобытность поэта, не укладывающаяся в критерии направлений и школ, — исходная предпосылка их суждений о Баратынском. «Он шел своею дорогой один и независим» — таково решающее суждение Пушкина, находившего, очевидно, в облике Баратынского нечто близкое своему идеалу поэтической независимости и «тайной свободы». Ни к кому из современников-поэтов не относился Пушкин с таким напряженным вниманием и никого не ставил так высоко: «Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды» — Батюшкова. Но в 30-е годы уже и Пушкин молчит о Баратынском, и, видимо, новое творчество поэта не так близко ему, как Баратынский 20-х годов. В 20-е годы Пушкин всегда говорит о нем в тоне высшего признания, как о равном поэте, определяя при этом область его первенства — элегию.
В ранней лирике Баратынского сильны эпикурейские мотивы, за ним закрепляется слава «эротического» поэта и «певца Пиров»; но сразу же к этим общим мотивам примешивается «необщее выражение», вызвавшее поэтическую характеристику Пушкина: «задумчивый проказник». Рядом с любовной элегией («Ропот», 1820; «Разуверение», 1821; «Поцелуй», 1822; «Признание», 1823; «Оправдание», 1824) сразу же выступает у Баратынского прямая лирико-философская медитация («Дельвигу», 1821; «Две доли», «Безнадежность», «Истина», 1823; «Стансы», 1825). Но и в любовную элегию проникает и становится главным началом в ней «раздробительная» (характеристика ума Баратынского Вяземским) рефлексия над таинственными законами изменения чувства, проявившимися в любовной истории; уже в ранних элегиях Баратынского чувство «мыслит и рассуждает», и ум «остуживает» поэзию (И. С. Аксаков), внимание переносится на закономерное и общее в человеческих отношениях. Господствующая тема разрушительного хода времени сказывается в некоторых элегиях необычным расширением временного диапазона, позволяющим уподобить «Признание» «предельно сокращенному аналитическому роману» (Л. Я. Гинзбург), образцом которого был любимый Баратынским «Адольф» Б. Констана. По пушкинской формуле, в этом романе «современный человек изображен довольно верно»; можно по праву перенести эту формулу и на «Признание» Баратынского. В ранних элегиях поэта изначально заложена тенденция к философскому расширению изнутри, реализующаяся затем в зрелом творчестве. Поэтому в 1824 г. Баратынский оказался готов к принятию данной Кюхельбекером критики элегии как формы субъективной и узкой, не вмещающей современного исторического и гражданского содержания.
Как уже отмечалось, в 20-е годы элегия стала полем эстетической борьбы и поэтических преобразований. Баратынский отозвался с одобрением на выступления Кюхельбекера против условного языка элегии и тогда же сам в послании «Богдановичу» (1824) предал самокритике общие и собственные «задумчивые враки». Тем самым он, однако, отнюдь не переходил на эстетические позиции Кюхельбекера и не сходил с «элегического» пути, но был на этом пути накануне своих откровений в русской поэзии; этот момент и запечатлела самокритика 1824 г.
Замечательную, во многом уже итоговую, характеристику пути Баратынского дал в 1838 г. Н. А. Мельгунов: «Баратынский по преимуществу поэт элегический, но в своем втором периоде возвел личную грусть до общего, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества». Единство пути поэта и укорененность философской поэзии «второго периода» в ранних элегиях почувствованы здесь точно.
Вышедшие в 1827 г. как итог «первого периода» «Стихотворения Евгения Баратынского» вызвали уже цитированный суровый отзыв С. Шевырева. На несправедливость его и глухоту рецензента к сокровенному существу Баратынского сетовал Пушкин в письме Погодину (19 февраля 1828): «Грех ему не чувствовать Баратынского...» Но претензии Шевырева были голосом уже нового поколения деятелей и поэтов, вышедших из московского кружка любомудров, и новым требованием поэзии, «неразлучной с философией» (Д. В. Веневитинов). В это же время и сам обосновавшийся с 1826 г. в Москве Баратынский уже идет навстречу новому пониманию поэзии. Он воспринимает новые умственные интересы, отразившиеся впервые в письме Пушкину от января 1826 г., где сообщается в первых же словах как новое и важное: «Нам очень нужна философия». Скоро эта философская прививка проявится в том начинающемся повороте к возведению «личной грусти в общее значение», о котором скажет потом Мельгунов и которое обнаруживается в совершенно новых для поэта стихотворениях — «Последняя смерть» (1827) и «Смерть» (1828).
К этому же поворотному времени относится «Сцена из поэмы «Вера и неверие»» (1829), остро поднимающая глубинную, выраженную в заглавии тему. Предвосхищаются вопросы Ивана Карамазова, и с той же аргументацией: богоборческий ропот с силой аргументируется указанием на несовершенный и «смутный» мир, являющий «пир нестройный», «смешенье» зла и добра. Возникает проблема теодицеи, она составит сквозную тему у Баратынского, отливаясь в формулу оправдания Промысла.

Е. А. Баратынский
Литография А. Мюнстера с рисунка А. Лебедева
Из факта «смешенья» («наружного беспорядка в видимом мире») исходит и эстетическая теория Баратынского, единственный раз им публично изложенная в предисловии к поэме «Наложница» (1831; в повторном издании — 1835— переименована в «Цыганку»). Поэтически роковое «смешенье» переживалось как «хаос нравственный» и порождало сомнение и «мятеж». В предисловии же к «Наложнице» то же «смешенье», «дозволенное Провидением», парадоксально признано фактом нравственным: «Характеры смешанные... одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность». Здесь формируется наряду с лирическим мятежом другая реакция и другая позиция по отношению к нравственному хаосу мира: бестрепетное исследование. Не случайно она формируется в объяснении на поэму, «самый род» которой требует объективно-эпического развертывания противоречивого мира, и прежде всего противоречивых характеров, и постижения логики и нравственной цели такого устройства мира. Но эта позиция нарастает и в лирике, порождая одно из поздних стихотворений, которое называют программным и которое хочется также назвать методологическим, — «Благословен святое возвестивший!» (1839). «Две области: сияния и тьмы // Исследовать равно стремимся мы» — строки эти всегда цитируются как декларация поэта-исследователя. Это так, но важно почувствовать здесь два пафоса, выражающихся такими стилистически разнородными фразеологизмами (как бы из разных языков): «сияния и тьмы» — «исследовать равно». «Научный» метод исследователя вводится в мир мистерии (вспоминается мистериальный мир «Братьев Карамазовых» с их темой двух бездн — «веры и неверия», разом созерцаемых). Сквозь интеллектуальный холод исследовательского объективизма проступает тайным жаром эмоция нравственного подвига такого исследования.