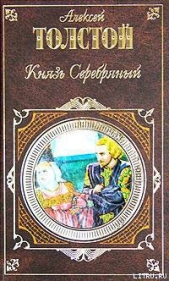Поэтика за чайным столом и другие разборы
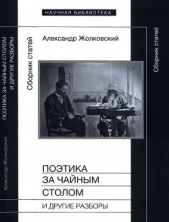
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Столь же недвусмысленны всем известные заголовки и цитаты, попутно вводимые в текст в самых неожиданных местах: Оскорблю и унижу (Достоевский), дворянского пожилого гнезда (Тургенев), слово вакханалия спустя несколько строчек после упоминания о Пастернаке, мусорный ветер (Платонов), в невидимых миру слезах и до смешного сквозь слезу (Гоголь), средь шумного бала (А. К. Толстой), Зацелую допьяна (Есенин) и т. п.[538]
Но налицо и менее четкие аллюзии, смазанные искажениями или настолько обобщенные, что отсылают скорее к мотивам, нежели к конкретным текстам, и таким образом граничат с чисто типологической интертекстуальностью. Тем не менее в большинстве случаев их источники все же поддаются распознанию. Слова Берии перед самоубийством: Ах, Иосиф, Иосиф, зачем ты оставил нас, генацвале?! (с. 10) звучат как подражание предсмертной жалобе Христа. Повторяющийся мотив фальшивой искренности старого солдата, выглядящей особенно иронически, когда честная критика больше напоминает лесть, может отсылать к Первому Министру из «Голого короля» Евгения Шварца. Встречи, на которые к Палисандру является горбатая и придурошная побируха с <…> кладбища (с. 99), по-видимому, восходят к связи Федора Павловича Карамазова с Лизаветой Смердящей, а лопушок, будто бы произрастающий на ее могиле, — к базаровскому представлению о жизни после смерти («Отцы и дети»).
Такой бриколаж из разнородных источников характерен для «Палисандрии». Гирька ходиков, падающая на детский нос Палисандра из-за того, что распалась цепь времен (с. 103), сплавляет фрагмент из начальной сцены «Тристрама Шенди» с классической фразой Гамлета. Сложный каламбур на глаголе играть, по поводу казни Берии, разыгрываемой майором Гекубой (с. 199–201)[539], восходит к пастернаковскому стихотворению об актрисе, играющей Марию Стюарт (Сколько надо отваги… из цикла «Вакханалия»), к мотиву карточных проигрышей (частому в русской литературе), к хлестаковской фразе (в дороге… поиздержался) и, возможно, к оркестровому аккомпанементу экзекуции в «Приглашении на казнь» Набокова. Словесная игра у Соколова порой столь насыщенна, что за одним словом может стоять целый набор источников. Название станции Эмск-Кабацкий (с. 69) отсылает к первой букве слова Москва, к бюрократической железнодорожной топонимике (типа Москва-Товарная), к стилизованно-секретным названиям городов в советской прозе (ср. «город Энск» в «Двух капитанах» Каверина) и, конечно, к есенинской «Москве кабацкой». В других случаях имеют место не столько многослойные отсылки, сколько колебания между источниками. Так, обмен письмами в пределах одного дома между Палисандром и Модерати (с. 244) напоминает как о «Переписке из двух углов» Вяч. И. Иванова и М. О. Гершензона, так и об аналогичной ситуации в «Бесах». А за словами Палисандра Молчит <…> народ мой (с. 24) слышатся соответствующие места из финала «Бориса Годунова» (Народ безмолвствует) и из «Мертвых душ» (Русь-тройка <…> не дает ответа).
Один из повторяющихся эффектов состоит в оригинальной прозаизации поэтического материала, при которой в качестве строительных блоков текста используются известные стихотворные фрагменты: пушкинские оргиастические последние содрогания, знаменитая перчатка с левой руки Ахматовой, пробуждение, которое по-пастернаковски застигало… врасплох, оборот расстелена и постель из скандального стихотворения Евтушенко и т. д. Целые эпизоды оказываются развернутыми прозаическими вариациями на сюжеты знаменитых стихотворений. Так, история о соблазнении героини проезжим корнетом (с. 50) подверстывает к сюжету некрасовского стихотворения «Что ты жадно глядишь на дорогу…?» (и популярной песни на эти слова) сюжет песни «Молода еще я девица была…» (на слова Е. П. Гребенки). Лирические зачины гуляю ли я…, предаюсь ли я и т. п. (с. 21) пародируют пушкинское «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». И даже невинный, казалось бы, деепричастный оборот шагая <…> с каких-нибудь образцово-показательных похорон… (с. 21) объединяет ахматовское опять пришел с каких-то похорон (из стихотворения «Борис Пастернак») с советским клише (спародированным в стиле ильфопетровских дежурно-показательных щей). Порой прозаизации подвергаются не столько конкретные стихотворные тексты, сколько характерные для поэтов мотивы, как в случае с квазипастернаковскими упоминаниями ветра, галерей, жалюзи и малярийно знобящих волнений (с. 17–18), а также свиданий в разрушенном бурей саду (с. 183)[540].
Наконец, встречаются в «Палисандрии» и автоаллюзии: Часовой взвился соколом (с. 9), Я гол как сокол (с. 174) — в том же духе и даже в том же «птичьем» коде, что и знаменитый гордый гоголь в конце «Тараса Бульбы».
2. Иногда несколько интертекстов образуют кластеры, принимающие форму либо повторных отсылок к одному и тому же источнику, либо многочисленных отсылок, сверхдетерминирующих какую-то одну деталь.
Примером повторности могут служить уже упоминавшиеся отсылки к Пастернаку[541]. Затекстовое присутствие в «Палисандрии» Эдуарда Лимонова обнаруживается, среди прочего, в эпизоде, где Палисандр обедает с Беккетом, напоминающем воображаемую встречу Лимонова с Сальвадором Дали в его «Мы — национальный герой» [Лимонов 1977] и представляющем собой очередную заявку на признание стороны деятелей западной культуры. Соколов пишет как бы задним числом, после не только доэмиграционного «Мы — национального героя», но и написанного уже в эмиграции «Это я — Эдичка» [Лимонов 1979] и потому уверенно совмещает игривую претенциозность лимоновской мании величия из первого с ее болезненной фрустрацией в последнем.
Разрыв между блестящими ожиданиями и жалкой реальностью эффектно разыгран в унизительных для Палисандра сценах в Бельведере. Более того, Соколов придумывает и невероятный счастливый поворот этого сюжета, изображая Палисандра обучающим благодарного Сэмюэла Беккета искусству письма. Таким образом он как бы ремифологизирует фантазии лимоновского «Национального героя». Характерно, что в повествовании обед с Беккетом предшествует бельведерскому унижению, хронологически же, согласно фабуле, происходит позже него.
Другая серия повторов свидетельствует о знаменательной, хотя впрямую и не заявляемой связи с «Тристрамом Шенди» Стерна[542]. Общие элементы включают: озабоченность часами, появляющимися в обоих романах на первой же странице; квазисерьезный интерес к военной истории и теории, фортификационным укреплениям и т. п.; деформацию носа (по вине у Палисандра — часовой гири, а у Тристрама — докторских щипцов; ср. также знаменитые пассажи о носах у Стерна); бесконечно откладываемое рождение героя (у Стерна) и/или его по-взросление (у Соколова) и неопределенность половой идентичности персонажа (ср. предположительно кастрирующее ранение дяди Тоби и гермафродитизм Палисандра). Даже ультрасовременная борьба Палисандра за права гермафродитов и его дискуссия со Стрюцким о правах незачатых детей имеют аналогию в иронической адвокатуре прав неродившихся у Стерна. Вообще, «Палисандрия» явно принадлежит к стернианской традиции пародийного повествования, с ее постоянными временными сдвигами и странными персонажами, озабоченными природой времени, своими физическими изъянами, половыми особенностями и проблематичными военными доблестями.
Сверхдетерминированность представлена, в частности, многочисленными случаями словесного бриколажа (ср. выше об Эмске-Кабацком), а в более широком плане — такими лейтмотивами, как «конный» аспект любовных побед и поражений Палисандра. Уже троянский день-конь (с. 154) задает эмблематический образ существа, нагруженного смыслами, которым предстоит овеществиться во множестве вариаций. Троянский мотив также символизирует древний мир, архаику, Время вообще. Древнегреческие коннотации вернутся, когда лошадиная сущность Палисандра испытает ревность к жеребцам Эллады, а также в эпизодах извращенной любви втроем[543] между Палисандром-жеребцом (то есть своего рода золотым ослом Апулея[544]), князем Потемкиным и Екатериной. Этот треугольник совмещает темы «любви/смерти» (Екатерина умирает во время сношения; жеребца-Палисандра отправляют на бойню; его череп будет лежать в ожидании своего князя Олега из пушкинской «Песни…») и «времени» (молодежь играет в бабки, которые остались от мертвого жеребца[545]).