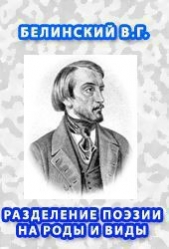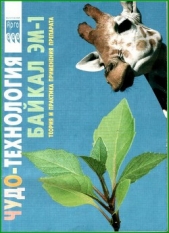Литературократия
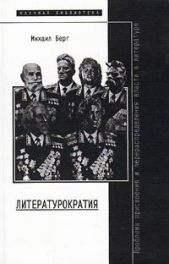
Литературократия читать книгу онлайн
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(59) Ср., например, такое вполне симптоматичное заявление: «Известно, что русская литература нынешнего столетия подверглась влиянию исключительно важного события, имя которому — „Октябрьская революция“ или большевистский „государственный переворот“» (История 1995: 8).
(60) Об алгоритмах медленного чтения см.: Ман 1999.
(61) Подробно о каноне соцреализма, его фазах и дискурсах см.: Гюнтер 2000b: 281.
(62) См. подробнее об этом главу «О статусе литературы».
(63) Пит. по: Парамонов 1997: 74.
(64) Так, по утверждению И. Смирнова, тоталитаризм пытался поставить человека в исходную позицию, позволяющую начать человеческую историю заново. Цель тоталитарной культуры состояла не в том, чтобы, повторяя идеи Ницше, создать сверхчеловека, но в том, чтобы «на челночный манер вернуть человека в предчеловеческую действительность» (Смирнов 1999а: 68–69). Однако исходная позиция, позволяющая начать все с начала, и есть детство человечества, а попытка создать человека без «дифференциальных признаков» синонимична инфантилизации человека как такового.
(65) Гройс 1993: 16.
(66) См.: Серто 1997: 31.
(67) Ср. утверждение Выготского о «переплавке человека как о несомненной черте нового человека», об искусственном создании нового биологического типа, призванного стать единственным и первым видом в биологии, которым создает сам себя (Выготский 1984: 435). О том, как советская власть пыталась руководить половым чувством см.: Найман 1996: 64–85.
(68) Об интересе советской власти к биологическим экспериментам см.: Золотоносов 1991, Найман 2000. Эти эксперименты продолжались до второй половины 1930-х годов, когда были закрыты те институты, что занимались антропологическими опытами, целью которых было омоложение, преодоление антропологических границ и в конечном итоге — бессмертие. Это были Государственный научно-исследовательский институт обмена веществ и эндокринных расстройств (директор Игнатий Казаков), Институт экспериментальной биологии (директор Н. К. Кольцов), Научно-исследовательский институт урогравиданотерапии (гравидан — моча беременных женщин, с помощью которой Алексей Замков, муж известного скульптора Веры Мухиной, пытался решить проблему омоложения организма). Результатом разочарования в возможностях науки в плане антропологических трансформаций стало «дело врачей». Как образно заметили. Золотоносов, проанализировав дело доктора И. Казакова, «врач, не обеспечивший омоложения, должен быть убит сам». Неудача антропологических экспериментов привела к тому, что «прежняя мифология бессмертия решительно разрушалась; утверждалась новая мифология — сакрализованной смерти» (Золотоносов 1991: 97–98).
(69) Слова М. Волошина: «Русская революция — это исключительно нервно-религиозное заболевание» (Волошин 1991: 87), опережающие интерпретации более позднего времени, как, впрочем, и другие уничижительные отзывы о революции (принадлежащие З. Гиппиус, Бунину и т. д.), свидетельство не столько, казалось бы, исторической интуиции, сколько пониженной чувствительности к ожидаемому мировой культурой антропологическому перевороту. И одновременно естественное противопоставление доминирующему, господствующему психотипу психо-исторических черт, не выдержавших конкуренции в поле психологии.
(70) Как заметил М. Л. Гаспаров, история многих областей русской культуры в XX веке выглядит так: «в начале века — быстрый выход на уровень современного Запада, в первые послереволюционные годы — авангардные эксперименты лучшего качества, потом — торможение, поворот лицом к классикам и долгий застой и, наконец, с началом перестройки, новая спешка в погоне наверстать отставание от Запада» (Гаспаров 1998а: 77). О периоде изоляции советской литературы от Запада, который начался со второй половины 1930-х годов и продлился несколько десятилетий, см.: Гюнтер 2000b: 284.
(71) По мнению Б. Парамонова, необходимость русского опыта стала сомнительна для Запада прежде всего потому, что Запад удержался от соскальзывания в тоталитарный социализм на фоне тех событий, которые обусловили распад России. «К этому времени в западноевропейских странах уже не было экстремистских социалистических партий марксистского образца. Поэтому даже очень далеко идущие социалистические проекты — например, лейбористская революция в Англии 40-х годов — сохранили в неприкосновенности демократический порядок. Можно вспомнить, что приходить к власти лейбористам случалось уже и до этого, например в начале 30-х годов, и именно тогда их вождь Макдональд в ответ на соответствующие опасения сказал: „В отличие от русских коммунистов мы не ищем коротких путей в тысячелетнее царство“» (Парамонов 1997: 347.)
(72) Войс помещает фигуры Сталина и Гитлера в ряд таких поп-героев, как М. Монро, Э. Пресли, Дж. Кеннеди, Дж. Леннон, Э. Меркури, принцесса Диана и т. д. Общим для них является медиальная власть как результат воплощаемых утопий в виртуальном пространстве.
(73) Напомним, что, используя термин «игра», мы предполагаем, что любую конкретную практику в поле литературы можно рассматривать как модель игры, которая предлагается партнеру по игре (читателю) с тем, чтобы он мог выиграть, то есть увеличить свой культурный, психологический и социальный капитал. Естественно возникает вопрос о возможности конвертировать модель игры из одной культуры в другую, что (при разнице в социальных условиях) происходит только в том случае, когда сами правила игры подлежат конверсии, и только в этом случае сама модель объявляется актуальной. См.: Caillois 1967, Barthes 1973.
(74) В том числе поэтому в конце 1930-х годов Набоков оставляет русский язык и переходит на английский; многие другие писатели-эмигранты вообще перестают писать, а А. Ремизов в большей степени, чем какой бы то ни было другой из писателей-эмигрантов, именно в эти годы сопричастный истории человека письменного, оказывается в своеобразной слепой зоне неполной видимости, не вызывая интереса ни у читателей, ни у издателей.
(75) Об институциональной структуре советской литературы см.: Геллер & Болен 2000: 314–316.
(76) Инновационная бедность литературной функции таких, казалось бы, разных произведений, как «Тихий Дон» и «Доктор Живаго», становится более отчетливой, если сопоставить эпопею Шолохова с опубликованным за десять лет до нее «Улиссом» или такими книгами Борхеса, вышедшими в свет почти одновременно с «Тихим Доном», как «Эваристо Карреро» (1930), «Обсуждение» (1932), «Всемирная история низости» (1935). А «Доктора Живаго», воссоздающего письменного человека XIX века в не соответствующих ему обстоятельствах века XX, — с традицией «нового романа» Натали Саррот и Роб-Грийе или «Лолитой» Набокова. В свою очередь низкую психо-историческую инновационность русских романов Набокова, не позволившую им стать фактом мировой литературы, проявил успех его английских романов и прежде всего «Лолиты», где зафиксированы не только приметы новой литературной функции (впоследствии она будет охарактеризована как постмодернистское письмо), но и новый антропологический тип. Почти одновременно его проявляет практика не только Набокова, но Беккета (романы «Маллой», «Мэллон умирает») и др.
(77) См.: Шматко 1993: 18.
(78) Свою версию идеологии на основе анализа советских анекдотов, фильмов, массовой культуры предлагает С. Жижек. См.: Жижек 1999.
(79) См., например: Ионин 1996: 4.
(80) Бурдье 1994: 213.
(81) См.: Каганский 1999.
(82) Сакрализация культуры и правил игры в ней привела к тому, что, согласно А. М. Панченко, веселье, ирония, смех обличались на Руси с постоянством и упорством, «начиная с „Повести временных лет“ (статья 1068 г. „О казнях божиих“) и „Жития“ Феодосия Печерского». Обличение смеха базировалось на буквальном толковании евангельской заповеди: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Еще Иоанн Златоуст, особо почитавшийся на Руси, первым заметил, что Христос никогда не смеялся, что впоследствии позволило В. В. Розанову построить свою систему осуждения христианства за привнесение печали в мир. Смех действительно отождествлялся с бесовством, а «за пир с пляской, коледование и т. д. налагались различной тяжести епитимьи. В результате возникла сильная и устойчивая традиция представления о смехе как проявлении сил зла, а народная фантазия продолжала рисовать ад как место, где грешники „воют в прискорбии“, а их стоны перекрываются раскатами дьявольского хохота» (Панченко 1984: 63).