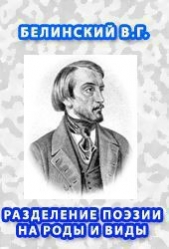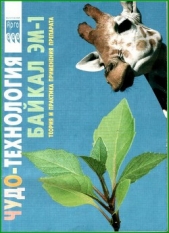Литературократия
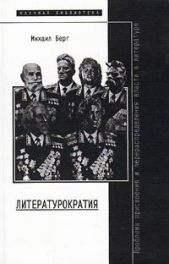
Литературократия читать книгу онлайн
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(50) Гройс, используя категории «нового» и «архива», утверждает, что архив культуры тем более эффективен, чем полнее он охватывает уже сделанное культурой и обеспечивает его систематическое хранение, распространение, изучение и т. д. Полнота, «комплектность» архива становится естественным препятствием для попадания в него того, что положительно адаптировано к традиции, и, напротив, настоятельным и непременным становится требование «производства нового и оригинального» (Гройс 1993: 120). Подробнее см. главу «Теория и практика русского постмодернизма в ситуации кризиса».
(51) Для Ж.-Ф. Лиотара научная легитимация есть процесс, посредством коего законодатель, имеющий дело с научным дискурсом, наделяется полномочиями устанавливать некие условия, определяющие порядок включения любого утверждения в данный дискурс для рассмотрения его научной общественностью. Касаясь проблемы художественной легитимации, создатели институциональной теории (Артур Данто и Джордж Дики) полагают, что сам по себе любой объект (будь это картина или книга) не является произведением искусства, этим качеством его наделяют соответствующие институты. Мы пользуемся этим понятием в самом расширительном смысле, какой оно получило в дискуссиях по вопросу власти у современных немецких теоретиков. См.: Lyotard 1984, а также Итон 1997: 272.
(52) Как известно, Юнг в своей работе «Психологические типы» полагает, что психологический тип складывается в результате отождествления человека с той из своих функций, к которой он от природы наиболее одарен или которая предоставляет ему «самые очевидные средства для достижения социального успеха» (Юнг 1995: 549). Иначе говоря, механизм психологической коррекции подвержен влиянию социально ориентированной стратегии. Более узкий способ определения конкурентной борьбы различных психотипов демонстрируют сторонники информационного подхода, выявляющие всего два психотипа — аналитический (рациональный) и синтетический (эмоциональный, интуитивный). Эти два доминирующих типа соотносятся с лево- и правополушарной деятельностью головного мозга, а их доминирование объявляется зависимым от квазипериодической последовательности со средней длительностью каждого цикла около 40–50 лет (см., например: Мажуль & Петров 1999: 184). Мы, однако, используем понятие психотип в широком смысле как характер (или характерный образец единой общей установки), встречающийся в индивидуальных формах и добивающийся доминирования в культуре.
(53) Подробнее см. об этом главу «О статусе литературы».
(54) Характерно, что понимание национального как проявление антропологических ожиданий свойственно и русской культуре, несмотря на ее столь частые попытки дистанцироваться от мировой культуры. Так, И. Смирнов интерпретирует фразу Достоевского о «всемирной отзывчивости» Пушкина: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только <…> стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» — как попытку Достоевского придать отождествлению национального с антропологическим религиозный смысл в проповедовавшейся им идее русского «народа-богоносца» (Смирнов 1994: 97). Однако симптоматично, что «всемирная отзывчивость» Пушкина, скорее, имеет отношение к его функциям адаптации мировой культуры в поле культуры русской, а не наоборот. Апелляция к тому, что поэзия (и особенно русская) непереводима, вряд ли может быть признана оправданной. Естественные потери, возникающие при переводе на другой язык, становятся преградой только в том случае, когда сама инновационность не очевидна. Скорее, речь должна идти о своеобразной двойной бухгалтерии и дифференциации ролей поэта национального и мирового. Инновационность Пушкина (казалось бы, несомненная для русской литературы) затушевывается при переводе на другие языки и в определенной мере покрывается совокупной тенью ряда французских, английских и итальянских поэтов XVII–XIX веков, сумевших вывести на сцену новый антропологический тип (в русской транскрипции он был обозначен как «лишний человек») существенно раньше. Ср., например, утверждение Галковского: «Байроновское сатирическое остранение помогло Пушкину овладеть чужой темой, адаптироваться в ней, органично включить в свое „я“ чужеродное начало. <…> И ведь все наследие Пушкина, все сюжеты его заимствованы» (Галковский 1992: 151).
(55) О том значении, которое придавалось процессу выхода русского человека на мировую сцену, можно судить хотя бы по высказыванию Данилевского, ожидавшего уже во второй половине 1890-х годов, что в самом скором времени «славянский культурно-исторический тип в первый раз представит синтез всех сторон культурной деятельности» (Данилевский 1894: 556). И. Смирнов отмечает характерное для русской культурологии второй половины XIX века стремление стереть различие между национальным и мировым, оказавшее влияние даже на Константина Леонтьева, которым, говоря о «всемирном духе» России, уточнял, что национальная культура имеет право на существование, только если она обладает антропологическим значением: «Под словом культура я понимаю вовсе не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и т. п., а лишь цивилизацию свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию» (цит. по: Леонтьев 1995).
(56) Так, по мнению Витторио Страда, говоря о русском и вообще европейском литературном развитии, вполне оправдано использовать такую масштабную временную перспективу, как русская революция, ибо и «в литературе, да и во всей культуре на рубеже двух веков, причем в России, пожалуй, отчетливее, чем в остальной Европе, рождались тенденции и зрели силы, которым было предназначено совершить революционную трансформацию всей мировой действительности. Именно в России в XX веке три революции всколыхнут мир и потрясут до основания страну» (Страда 1995: 11).
(57) Если оценивать русскую революцию как актуальное событие из жизни человека письменного, подготовленное антропологическими ожиданиями, то вряд ли будет уместен политический подход (когда революция рассматривается в рамках ее идеологической программы или политической практики) или нравственный (когда она осуждается за принесенное в мир зло). Нас прежде всего интересует революция как процесс антропологических и психо-исторических трансформаций, имеющий начало и конец (не всегда, правда, точно фиксируемые), обладающий предысторией и спектром последствий. В числе последних — влияние антропологических ожиданий, связанных с революцией, на статус литературы, которая в рамках письменного проекта революции была и инструментом, и индикатором осуществлявшегося эксперимента.
(58) Не только Джон Рид, опровергая скептическое определение революции как «авантюры», писал, делая акцент на антропологическом значении революции: «Да, то была авантюра, и притом одна из поразительнейших авантюр, на какие когда-либо осмеливалось человечество…» (Рид 1957: 13). Жорж Сорель назвал революцию «зарей новой эры». Антропологический аспект подчеркивался и наиболее чуткими наблюдателями внутри России. «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы…» (Блок 1970: 500), «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой, клячу истории загоним. Левой!» (Маяковский 1971: 86), «Снова мы первые дни человечества! Адам за адамом проходят толпой…» (Хлебников 1987: 137), «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля» и «Я вижу человека: он волков пугает головнями…» (Мандельштам 1991). Антропологические претензии революции вскоре были подтверждены и заявлениями практиков. Так, Бухарин утверждал, что «влияние социальной среды играет большую роль, чем это обычно предполагается, изменения могут совершаться гораздо быстрее, и та глубокая реорганизация, которую мы называем культурной революцией, имеет свой социально-биологический эквивалент вплоть до физиологической природы организма» (На путях 1928: 10). О синхронных по времени идеях нацистской антропологии см., например: Gehlen 1986, Rothacker 1948. Ср.: Plessner 1931. О термине антропологическая революция см. также: Ионин 1996: 23–24.