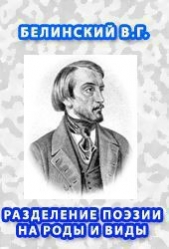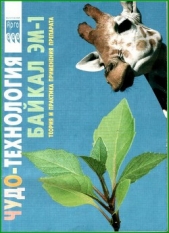Литературократия
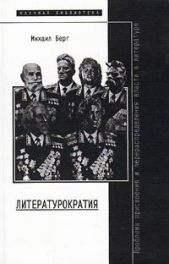
Литературократия читать книгу онлайн
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(29) См.: Смирнов 1994: 317.
(30) См.: Giddens 1996, Inglehart 1997, а также: Деготь 1999b. Еще раньше тезис о становлении постмодернизма как «новой необозримости» отвергал Хабермас (см.: Habermas 1985: 143).
(31) Ср. высказывание Смирнова о том, что постмодернистский текст стремится к неоригинальности, к компрометированию культа нового, свойственного авангарду (Смирнов 1994: 330).
(32) По Гройсу, концептуалисты отказались от оппозиции «репрессивному, официальному оперированию с текстами путем создания своего собственного, уникального, аутентичного, индивидуального <…> языка, как этого требовали модернистские утопии „высокой и чистой литературы“» (Гройс 1997: 443). Наличие аутентичного, индивидуального языка в бестенденциозной и неканонически тенденциозной литературе является среди прочего признаком принадлежности модернизму.
(33) См.: Хансен-Леве 1997: 238–241.
(34) Wittgenstein 1953: 17–18. Ср.: Luhmann 1984.
(35) Хотя не менее часто и соц-арт рассматривают как вариант концептуализма, решающий характерные для него проблемы, апеллируя к языку советской культуры (см.: Курицын 2000: 91-124).
(36) На связь между различными культурными актами и возможностью преобразовать их в капитал указывал уже Ф. Джеймисон, которым сетовал на то, что сегодня «невозможно вынести культурный акт за предел массивного Бытия капитала, туда, откуда можно было бы атаковать капитал» (Jameson 1996: 569).
(37) Гройс 1997: 443.
(38) См.: Панченко 1980, Гаспаров 1993–1994, Лотман 1996, Зорин 1996, Живов 1997, Рейтблат 1997.
(39) Подробнее об этом см., например: Грациа 1993а и Грациа 1993b.
(40) Так, согласно утверждению В. Курицына, «постмодернизм не претендует на роль еще одного течения в плюралистическом ландшафте — он настаивает на своем доминировании во всей культуре» (см.: Курицын 1992).
(41) О влиянии инновационных импульсов в культуре на самоорганизацию общества см., например: Inglehart 1997.
(42) Сходную периодизацию постмодернизма предлагает и Хал Форстер, также выделяющий два последовательных периода существования постмодернизма: первый период совпадает с политикой оппозиции установившемуся институционному модернизму и характерен на своей последней стадии изгнанием авторского слова, конкретной индивидуальности и всепоглощающим интересом к текстуальности. По Форстеру, этот период начался с середины 60-х годов на Западе и продолжался вплоть до 90-х годов. В начале 90-х годов эта фаза постмодернизма уступила место новой тенденции современного искусства, для которой характерно возвращение субъекта, «но не бывшей европоцентричной, буржуазной и гетеросексуальной личности, принадлежащей европейской расе, а противоположной ей» (Постмодернисты 1996: 25). Эта фаза соответствует «эпохе политкорректности» и интересу к различным формам репрессированного традиционной культурой сознания и поведения.
(43) Ср., например, высказывание Курицына о влиянии «эгоцентрического великорусского контекста, который учил наших писателей возгонять в себе высший идеал». К разряду произведений, соединяющих модернистские, реалистические и постмодернистские тенденции, Курицын относит роман Владимира Шарова «До и во время», прозу Александра Иванченко и «Пушкинский дом» Битова. «Они как раз соединяют в себе постмодернистское письмо с попытками построить вполне универсальную мифологию. Это уникально русский симбиоз…» (Постмодернисты 1996: 69). Однако эта «уникальность» вполне соответствует состоянию российского общества, пытающегося приспособиться к постмодернистской эпохе, не отказываясь при этом от модернистских утопий как источника легитимной власти. Противоречие состоит в том, что постмодернистская эпоха отказывается от всех утопий, признавая единственной властью власть рынка.
(44) Именно отчетливое присутствие в русской культуре утопических и неоутопических настроений и обеспечивает претензии на актуальность модернистским интенциям, способным, как полагают некоторые (см., например: Кривулин 1998), противостоять стратегии утопического реализма.
(45) См.: Bourdieu 1987.
(46) Характерно, что Барт призывает исследователей не смешивать эти подходы, так как у двух заявленных дисциплин совершенно различные критерии объективности, и вполне в духе Писарева полагает наиболее продуктивным вопрос: что именно сообщает нам произведение о своей эпохе? Он предлагает рассматривать произведение именно как документ эпохи, как один из следов «некоей деятельности», и сосредоточиться «только на коллективном аспекте этой деятельности»; иначе говоря, поставить вопрос о том, «как могла бы выглядеть не история литературы, а история литературной функции» (Барт 1989: 211–212). Ср., казалось бы, далеко отстоящее от проблематики Барта замечание Лотмана о том, что история культуры любого народа может рассматриваться с двух точек зрения: «во-первых, как имманентное развитие, во-вторых, как результат разнообразных внешних влияний» (Лотман 1992: 105). Симптоматична, однако, биполярность перспективы; нас в данном случае привлекает попытка рассматривать ту или иную практику в пространстве двух непересекающихся измерений.
(47) О том, как психологическое становится частью антропологического, см., например: Смирнов 1994: 88. В большинстве культур пафос антропологической переделки человека является тайным, однако в некоторые моменты этот пафос артикулируется с максимальной отчетливостью. Вспомним вполне симптоматичное заявление Троцкого: «Мы можем провести через всю Сахару железную дорогу, построить Эйфелеву башню и разговаривать с Нью-Йорком без проволоки. А человека улучшить неужели не сможем? Нет, сможем! Выпустить новое, „улучшенное издание“ человека — это и есть дальнейшая задача коммунизма» (Троцкий 1927: 110). О современном подходе к теме антропологии см.: Knoblauch 1996, Bischof 1997, Kramer 1998, Brandstetter 1999.
(48) Еще раз сравним наш подход с предложением Барта видеть при рассмотрении литературы два континента: «с одной стороны, мир как изобилие политических, социальных, экономических, идеологических фактов; с другой стороны, художественное произведение, на вид стоящее особняком, всегда многосмысленное, поскольку оно одновременно открывается нескольким значениям. Идеальной была бы ситуация, при которой эти два удаленных друг от друга континента обладали бы взаимодополняющими формами…» (Барт 1989: 209–211). Не претендуя на то, что наш подход является «идеальным», отметим, что рассмотрение конкретной практики в пространстве двух измерений — истории литературной функции и психо-исторических изменений — позволяет исследовать проекции поэтики в социальном и психологическом пространствах.
(49) В данном контексте, говоря об антропологии, мы будем иметь в виду не столько комплекс представлений о формировании и эволюции человека, «образовании человеческих рас и нормальных вариаций физического строения человека», сколько антропологию человека письменного. Точно так же антропогенез в нашем контексте оказывается не процессом историко-эволюционного формирования физического типа человека, а процессом формирования представлений о homo descriptus. Иначе говоря, мы имеем в виду литературную транскрипцию антропологии или письменную антропологию, которая представляет собой один из дискурсов власти. Так, А. Эткинд, рассуждая на тему различных форм дискурса власти, говорит о проявлении власти лингвистического дискурса посредством структуры, а антропологического дискурса в языке (Эткинд 1996: 298). Другими словами, искусство опережает (или подменяет) реальные антропологические изменения, формируя и артикулируя антропологические ожидания. По утверждению И. Смирнова, биологическая эволюция завершается в человеке, который ставит на ее место ее эквивалент — смену культур (Смирнов 1999а: 22), а еще Кант отмечал, что «к средствам расширения антропологии относятся путешествия, если даже это только чтение книг о путешествиях» (Кант 1966: 352). Тема философской антропологии раскрывается в: Buber 1971, Gadamer 1975, Lorenz 1990.