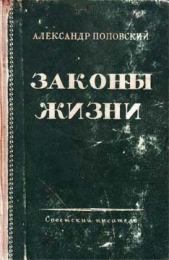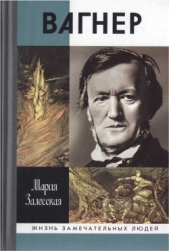Избранные работы

Избранные работы читать книгу онлайн
В сборник входят наиболее значительные работы Р. Вагнера («Искусство и революция», «Опера и драма», «Произведение искусства будущего» и др.), которые позволяют понять не только эстетические взгляды композитора и его вкусовые пристрастия, но и социальную позицию Вагнера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Установим точно роль поэта!
Часть вторая. Театральное представление и сущность драматической поэзии
Когда Лессинг в своем «Лаокооне» старался отыскать и определить границы поэзии и живописи, он имел в виду ту поэзию, которая сама является лишь описанием. Он исходил из сопоставления граничных линий такого, с одной стороны, пластического произведения, какое представляет собой сцена предсмертной борьбы Лаокоона, и, с другой, изображения этой сцены в том виде, как ее начертал Вергилий в своей «Энеиде» эпосе, предназначенном для чтения. Если в дальнейшем своем изыскании Лессинг касался и Софокла, то он имел в виду опять-таки только литературного Софокла, то есть такого, каким он представляется нам. Когда же он доходил до жизненно воспроизведенной драмы поэта, он невольно оставлял ее вне всяких сравнений с произведением живописи или ваяния, ибо не жизненное драматическое произведение обусловливается этими изобразительными искусствами, а, наоборот, эти искусства, соответственно своей бедной природе, получают свои рамки из их сопоставления с драмой.
Всюду, где Лессинг устанавливает границы и определяет область поэзии, он имеет в виду не предназначенное непосредственно к представлению чувственно изображенное драматическое произведение, которое объединяет собой все моменты изобразительных искусств в наивысшей, ему лишь доступной полноте и дает этим искусствам высшую художественную жизнь; он предполагает лишь жалкий скелет этого художественного произведения, то есть повествовательное, изображающее поэтическое произведение, говорящее не непосредственному чувству, а воображению. Это соображение сделано здесь изобразительным фактором, возбуждающим же элементом для такого фактора являются стихи.
Такое искусственное художество достигает какого-либо воздействия на самом деле только при безусловном сохранении своих границ и рамок, ибо оно должно стараться своим благоразумным образом действий заботливо предостеречь от путаницы безграничную фантазию, взявшую на себя его роль изобразительницы. Наоборот, оно должно пытаться направить фантазию на тот пункт, где она сможет представить себе изображенный предмет как можно яснее и определеннее. Единственно на воображение рассчитаны все эгоистически разъединенные искусства, особенно пластика, которая может осуществить важнейший момент искусства — движение — только обращением к фантазии. Все эти искусства только намекают. Настоящее изображение было бы им доступно лишь при обращении к универсальной художественной восприимчивости человека, при обращении не к воображению, а к чувственному организму во всей его полноте, ибо настоящее художественное произведение рождается лишь при переходе из области воображения в действительность, то есть в чувственное.
Честное старание Лессинга установить границы этих отдельных видов искусства, которые не могут непосредственно представлять, а только изображают, самым глупейшим образом извращается ныне теми, кому остается непонятной огромная разница между отдельными видами искусства и истинным искусством. Так как они всегда имеют в виду только эти отдельные, бессильные для непосредственного представления виды искусства, то они и думают, что задача каждого из этих видов — а вместе с тем (как они ложно понимают) и задача искусства вообще — сводится лишь к тому, чтобы возможно искуснее преодолеть трудность — дать фантазии точку опоры при помощи изображения. Нагромождение средств для этого может только запутать само изображение, и фантазия, смущенная и расстроенная изобилием разнородных изобразительных средств, скорее, должна уклониться от правильного понимания предмета.
Отсюда первым требованием для удобопонятности какого-нибудь рода искусства является чистота его вида, а всякое смешение искусств может эту удобопонятность только затуманивать. Действительно, для нас не может быть ничего запутаннее, как если, например, живописец захочет представить свою картину в движении — сделать то, что доступно только поэту. Но уж совершенно неестественной покажется нам картина, в которой написанные стихи поэта вложены в уста фигуре. Если музыкант, то есть абсолютный музыкант, пытается рисовать, то он не создает ни картины, ни музыки. Если бы он захотел сопровождать своей музыкой созерцание настоящей картины, то он может быть уверен, что не поймут ни музыки, ни картины. Кто может себе представить соединение всех искусств таким образом, что, например, в картинной галерее или между выставленных статуй должно читать роман Гете и чтобы при этом еще играли бетховенскую симфонию [49], тот, разумеется, прав, настаивая на разграничении искусств и желая указать каждому из них, каким путем оно может создать дальнейшее изображение своего предмета. Но то, что наши современные эстетики поставили также и драму в категорию «видов искусства» и в качестве такового сделали ее собственностью поэта — таким образом, что вмешательство в нее другого искусства, как, например, музыки, нуждается в извинении и никоим образом не может быть законным, — это значит, что они выводят такие следствия из Лессингова определения, на какие у них нет и тени права.
Эти господа видят в драме не что иное, как ветвь литературы, — вид поэзии, нечто вроде романа или дидактического стихотворения с той только разницей, что драму не просто читают — что несколько человек должны выучить ее наизусть, что ее должно декламировать, сопровождать жестами и осветить светом театральных ламп; к представляемой на сцене литературной драме музыка может применяться почти постольку, поскольку ее можно было бы исполнять при выставленной картине. Поэтому они вполне последовательно забраковали так называемую мелодраму, видя в ней нездоровую смесь. Но эта драма, которую единственно имеют в виду наши литераторы, так же мало может быть настоящей драмой, как мало фортепиано [50] может быть названо оркестром или даже хором. Начало литературной драмы обязано тому самому эгоистическому духу нашего художественного развития, что и фортепиано, и на его примере я хочу вкратце объяснить этот ход.
Старейший, естественный и наиболее красивый орган музыки, орган, которому сама музыка обязана своим существованием, есть человеческий голос. Наиболее естественно ему подражал духовой инструмент, духовому в свою очередь — струнный, а симфоническое сочетание духовых и струнных инструментов встретило опять-таки подражание в органе; тяжеловесный орган, наконец, сменился легко управляемым фортепиано. Заметим раньше всего, что первоначальный орган музыки, человеческий голос, переходя к фортепиано, опускался постепенно до все большей невыразительности. Инструменты оркестра, потерявшие всякий звук голоса, могли все же в достаточной степени воспроизводить его бесконечно разнообразные и живо сменяющиеся оттенки выражения. Трубы органа могли сохранить этот звук только в отношении его продолжительности, но уже не в отношении его разнообразного выражения, пока наконец фортепиано не стало лишь намекать на этот звук, предоставляя фантазии слушателя воспроизводить его во всей полноте. Таким образом, в фортепиано мы имеем инструмент, который только изображает музыку.
Как же случилось, что музыкант в конце концов удовольствовался беззвучным инструментом?
Случилось это не почему еще, как по желанию музыканта иметь возможность одному, только для себя, без совместной работы с другими воспроизводить музыку. Человеческий голос, который может мелодически проявляться только в связи с речью, есть индивидуум; только совместная деятельность многих индивидуумов создает симфоническую гармонию. Духовые и струнные инструменты близко стояли к человеческому голосу еще и в том отношении, что им также присущ индивидуальный характер, благодаря которому каждый из них обладает определенной, богато разнообразной звуковой окраской, и для впечатления гармонии они должны были звучать вместе. В христианском органе эти все живые индивидуальности были уже нанизаны в виде мертвых трубных регистров, которые по воле единственного и нераздельного виртуоза возвышали свои механические голоса во славу божию. Наконец, на фортепиано виртуоз мог без всякой посторонней помощи (органист нуждался все-таки в раздувальщике мехов) во славу самого себя приводить в движение множество стучащих молотков, ибо слушателю, потерявшему возможность наслаждаться красивым звуком, оставалось только изумляться ловкости виртуоза. Действительно, все наше современное искусство походит на фортепиано: в нем каждая частность исполняет задачи целого, но, к сожалению, лишь in abstracto, с полным отсутствием красок! Молотки, а не люди!