Фёдор Достоевский. Одоление Демонов
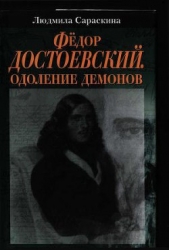
Фёдор Достоевский. Одоление Демонов читать книгу онлайн
«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла…» Литературное признание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.
Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскипой, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с H.A. Снешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов ми|х>ной литературы — Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда пи в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского…» (H.A. Бердяев).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Его бесстрастие, холодность, неудовлетворенный скептицизм, его красота и сила, обаяние, на всех производимое, и ореол какой‑то тайны — всё это реальные элементы в образе Ставрогина» [188].
Участник знаменитого в 20–е годы спора о Бакунине и Достоевском, Вяч. П. Полонский, возражая своему оппоненту, Л. П. Гроссману (доказывавшему, что прототипом Ставрогина был Бакунин), риторически восклицал: «И разве в нашем споре из этих двух фигур — Бакунина, с которым Достоевский так и не поинтересовался познакомиться, хотя жил с ним рядышком, и Спешнева, учителя юности Достоевского, — не следует отдать предпочтение последнему, совершенно оставив в покое первого?» [189]
«Уж если говорить о прототипе Ставрогина, то никак не о Бакунине, — утверждал Полонский. — Этого деятеля Достоевский не знал, ни прямых, ни косвенных сношений с ним никогда не имел и никаких следов своей заинтересованности этой личностью не оставил, тогда как со Спешневым не только был знаком, не только был вместе с ним членом тайного общества, но даже находился под обаянием его личности, был вовлечен им в его собственный тайный кружок и столь был предан задачам кружка, что даже вербовал в этот кружок Майкова для устройства тайной типографии» [190].
Под давлением неоспоримых фактов вынужден был признать правоту оппонента и Гроссман, согласившись, что «Спешнев произвел на Достоевского в молодости совершенно неотразимое впечатление», являя «идеальное воплощение поразившего Достоевского типа «аристократа, идущего в демократию». «Творческие натуры, — заключал Гроссман, — склонны в пору своих исканий подпадать подчас под влияние противоположной духовной организации, скептицизм ко — торой производит на них впечатление какой‑то чарующей демоничности… У Пушкина свой «демон» — Раевский, у Достоевского — свой Мефистофель — Спешнев. И тот и другой отражаются в творчестве своих младших друзей. В лирике Пушкина это тайно навещающий его «злобный гений», в романах Достоевского — Ставрогин… Это увлечение властной натурой одного из самых замечательных русских революционеров 40- х годов не могло пройти бесследно для Достоевского. Он навсегда запомнил свое духовное подчинение Спешневу, неодолимость исключительного очарования его личности и проповеди, и, когда перед ним возникло художественное задание изобразить вождя русской революции, он вспомнил прельстительный образ своего Мефистофеля» [191] .
Наверное, все‑таки дело обстояло ровно наоборот. Можно бы, полемизируя с Гроссманом, напомнить слова Достоевского, сказанные им еще в 1861 году, за десятилетие до «Бесов»: «Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них всё смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию… О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе… Другой демон — но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов… Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения… Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого‑то, и злоба брала нас… Но мы не смеялись. Нам тогда было вообще не до смеху. Теперь дело другое… Мы как‑то вдруг поняли, что всё это мефистофельство, все эти демонические начала мы как- то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться…»
За двадцать лет, разделивших Спешнева и Ставрогина, в жизни Достоевского произошло слишком много событий, преобразивших и его самого, и мефистофельскую тему, и тех, кто на его глазах любил «корчить Мефистофеля». Поэтому, как только Князь А. Б., блуждая в потемках своего Я, вышел на «мефистофельскую» тропу, на помощь автору явился Спешнев как зеркало для героя. Соблазн продолжить и завершить прерванный арестом 1849 года роковой дуэт, в котором первая партия исполнялась Мефистофелем, заставил Достоевского отказаться от уже готового варианта «Бесов» в пятнадцать листов и начать работу заново: это был уникальный шанс встретиться со своим демоном не на его, а на своей территории.
По странной случайности облик Спешнева, его личные особенности и биографические черты как нельзя более близко совпадают с характеристикой Ставрогина», [192] — иронизировал Полонский, возражая Гроссману.
К тому моменту, когда у Достоевского созрел наконец окончательный план «Бесов» и судьба Николая Всеволодовича Ставрогина была предопределена, прототип, пятидесятилетний Николай Александрович Спешнев, был жив, относительно здоров, проживал в Петербурге, занимался антропологией и статистикой, а также сотрудничал с печатными изданиями. Уже хотя бы по той причине, что автор романа и прототип героя были людьми более или менее одного круга и имели общих знакомых, невозможно было даже и в благородных художественных целях воспользоваться чужой биографией как фотографией или маскарадным костюмом.
Были, однако, и другие причины, почему Достоевский обращался со знакомой ему фактурой не столь бесцеремонно, как казалось первооткрывателям спешневской темы в творческой истории «Бесов»: представление о «как нельзя более близком совпадении» личных особенностей и биографических черт героя и прототипа основывалось всего лишь на общем и первом впечатлении.
Что же все‑таки отражало «зеркало» — биография и личность Спешнева, — когда в него смотрелся Ставрогин?
Оказалось, ему пришлись ровно впору обстоятельства «первоначальной биографии» Спешнева — Достоевский действительно хорошо знал своего Мефистофеля с точки зрения документа и факта.
Николай Александрович Спешнев (как и Николай Всеволодович Ставрогин) родился в богатой дворянской помещичьей семье: отец его, Александр Андреевич Спешнев, отставной подпоручик и помещик из старинного дворянского рода, владел несколькими имениями в разных губерниях [193]. Семейный архив, сохранивший письма Спешнева к матери, Анне Сергеевне Спешневой, урожденной Беклешовой, запечатлел многие обстоятельства его первоначальной биографии. В 1840 году умер отец (в заметках внучки Спешнева, H. A. Спешневой, говорится, что он был убит своими крепостными [194]), и сын получил свою часть наследства: имения в двух уездах Курской губернии, собственный дом в Петербурге и 500 крепостных душ мужского пола.
Воспитывавшийся в Петербурге, во Французском пансионе (по другим сведениям, в одной из петербургских гимназий), он был принят 29 января 1835 года — вместе с М. В. Петрашевским и В. А. Энгельсоном — своекоштным воспитанником в Александровский Царскосельский лицей (куда, по шестнадцатому году, отвезли и Ставрогина). Спешнев, однако, курса не окончил, а был отчислен из‑за конфликта с преподавателями. В единственном пока опубликованном письме Спешнева к отцу (от 22 октября 1838 года) он рассказывал, что в лицее за ним шпионят и подозревают в «революционных планах». «Велено было исследовать мой характер исподтишка, а я не имел охоты открывать своей души всем и каждому — заметив особенно, qui j’étais espionné, — да и притом я меланхолик и оттого уже меня очень трудно узнать: мои чувства и страсти горят внутри и ничего не видно снаружи. Меня стали опасаться, потому что не могли понять, мне инспектор заговорил: «Мало есть на свете людей, которых я не могу понять, а вы из числа таких… вы человек странный, ходите всегда мрачным, непонятным, как будто человек, который развивает планы — и планы революционные, потому что, будь ваши планы хороши, и вы б открыли их всем…» Мне ставили в вину все, что случалось в классе…» [195]






















