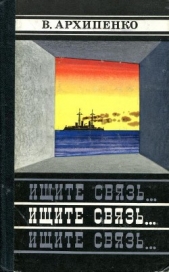Политэкономия соцреализма

Политэкономия соцреализма читать книгу онлайн
Если до революции социализм был прежде всего экономическим проектом, а в революционной культуре – политическим, то в сталинизме он стал проектом сугубо репрезентационным. В новой книге известного исследователя сталинской культуры Евгения Добренко соцреализм рассматривается как важнейшая социально–политическая институция сталинизма – фабрика по производству «реального социализма». Сводя вместе советский исторический опыт и искусство, которое его «отражало в революционном развитии», обращаясь к романам и фильмам, поэмам и пьесам, живописи и фотографии, архитектуре и градостроительным проектам, почтовым маркам и школьным учебникам, организации московских парков и популярной географии сталинской эпохи, автор рассматривает репрезентационные стратегии сталинизма и показывает, как из социалистического реализма рождался «реальный социализм».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот гимн практике вводит диалектику: от науки идут пресловутые «нормы», от практики – их «преодоление». Дальше начинается любимое сталинское «усреднение»: «Одни говорят, что нам не нужно больше никаких технических норм. Это неверно, товарищи. Более того, это глупо. Без технических норм невозможно плановое хозяйство. Технические нормы нужны, кроме того, для того, чтобы отстающие массы подтягивать к передовым. Технические нормы – это большая регулирующая сила, организующая на производстве широкие массы рабочих вокруг передовых элементов рабочего класса. Следовательно, нам нужны технические нормы, но не те, какие существуют теперь, а более высокие.
Другие говорят, что технические нормы нужны, но их надо довести теперь же до тех достижений, которых добились Стахановы, Бусыгины, Виноградовы и другие. Это тоже неверно. Такие нормы были бы нереальны для настоящего времени, ибо рабочие и работницы, менее подкованные технически, чем Стахановы и Бусыгины, не смогли бы выполнить таких норм. Нам нужны такие технические нормы, которые проходили бы где‑нибудь посередине между нынешними техническими нормами и теми нормами, которых добились Стахановы и Бусыгины. […] Одно, во всяком случае, ясно: нынешние технические нормы уже не соответствуют действительности, они отстали и превратились в тормоз для нашей промышленности, а для того, чтобы не тормозить нашу промышленность, необходимо их заменить новыми, более высокими техническими нормами. Новые люди, новые времена, новые технические нормы» (С. 21–22).
Отсюда обычно делался вывод о том, что вся стахановская кампания была простым идеологическим обоснованием для усиления потогонной системы. Это объяснение верно с точностью до наоборот: Сталин был (даже когда писал свои «Экономические проблемы социализма в СССР») прежде всего политиком и революционером, а не экономистом. Как политик, Сталин понимал, что эта экономика движется вообще не лозунгами, а драконовским трудовым законодательством, которое постепенно вводится как раз с середины 30–х годов. Оно направлено на «некоторых». На самом деле (что находится за пределами мира сталинского Другого) эти «некоторые» были все.
Процесс номинации «класса», маркируя объектов террора, достигает своего функционального предела, что подтверждает финальная часть речи вождя – «Ближайшие задачи». Первая из них – «обуздание упорствующих консерваторов из среды хозяйственных и инженерно–технических работников. […] Придется в первую очередь убеждать, терпеливо и по–товарищески убеждать эти консервативные элементы промышленности в прогрессивности стахановского движения и в необходимости перестроиться на стахановский лад. А если убеждения не помогут, придется принять более решительные меры» (С. 23).
Образцом решительных мер и является, по Сталину, ситуация в ведомстве Кагановича – Комиссариате путей сообщения, где уже знакомая нам «группа профессоров, инженеров и других знатоков дела, – среди них были и коммунисты, – которая уверяла всех в том, что 13–14 километров коммерческой скорости в час является пределом, дальше которого нельзя, невозможно двигаться, если не хотят вступить в противоречие с «наукой об эксплуатации». Это была довольно авторитетная группа, которая проповедовала свои взгляды устно и печатно, давала инструкции соответствующим органам НКПС и вообще являлась «властителем дум» среди эксплуатационников. Мы, не знатоки дела, на основании предложений целого ряда практиков железнодорожного дела в свою очередь уверяли этих авторитетных профессоров, что 13–14 километров не могут быть пределом, что при известной организации дела можно расширить этот предел. В ответ на это эта группа вместо того, чтобы прислушаться к голосу опыта и практики и пересмотреть свое отношение к делу, бросилась в борьбу с прогрессивными элементами железнодорожного дела и еще больше усилила пропаганду своих консервативных взглядов. Понятно, что нам пришлось дать этим уважаемым людям слегка в зубы и вежливенько выпроводить их из центрального аппарата НКПС. И что же? Мы имеем теперь коммерческую скорость в 18–19 километров в час. Мне думается, товарищи, что в крайнем случае придется прибегнуть к этому методу и в других областях нашего народного хозяйства, если, конечно, упорствующие консерваторы не перестанут мешать и бросать палки в колеса стахановскому движению» (С. 25).
В этой комичной зарисовке «профессора», которым «не знатоки дела», говорящие «голосом опыта», «слегка» и «вежливенько» «дали в зубы» (здесь, конечно, «Дружный смех зала») и те перестали «бросать палки», выглядят еще вполне безобидно. Сухой осадок кампании 1935 года – сугубо политический: всякая наука хороша постольку, поскольку она есть «наука побеждать». Выступая 17 мая 1938 года на приеме работников высшей школы, Сталин произнесет тост, в котором сформулирует свое понимание науки: «За процветание науки – той науки, люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций, которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки» [490].
Тот волюнтаристский пафос, который Сталин вводит в дискурс о науке, та патетика, которая создает острый стилевой контраст с его знаменитой «логикой», подтверждают: перед нами дискурс, который, подобно описанному Рыклиным метродискурсу, противостоит «всем, кто продолжает верить в силу опыта, расчета, калькуляции, кто забывает прибавить к схеме и чертежу мощный массовый энтузиазм, опрокидывающий любые расчеты и чертежи, реализующий якобы значительно большее, чем может постичь разум. Борьба с агентурой разума в рядах новых людей является одной из ключевых тем метродискурса» [491]. Интересно поэтому сравнить эту речь Сталина с работой Гастева «Организация труда в стахановском движении» (1936) [492]. Сталинскому прометеизму Гастев противопоставляет «НОТ». Для него Стахановы решали «организационно–техническую задачу», он рассуждал о «производственных законах», о «нормах» и «науке» [493]. Сталин же, напротив, – об отказе от норм и всякой «науки». Может показаться, что прагматик Сталин поменялся местами с романтиком Гастевым. На самом деле, сталинский романтизм был в 30–е годы – высшей прагматикой, тогда как гастевский «практицизм» – чистой романтикой [494].
Куда вернее понимал ситуацию другой бывший романтик – Андрей Платонов, писавший в статье о Пушкине в 1937 году, что в отличие от пушкинской поры теперь читатель – «сам творческий человек, и у каждого есть поле для воодушевленной, поэтической деятельности, ограниченное лишь мнимым горизонтом. Несущественно, что эта поэтическая деятельность заключается не в стихотворениях, а в стахановском движении», ведь и Стаханов, утверждал Платонов, «не ради добавочной получки денег спустился в шахту в одну предосеннюю ночь 1935 года», ведь и паровозные машинисты–кривоносцы тоже «следовали своему артистическому чувству машины, вовсе не заботясь о наградах или повышенной зарплате» [495]. В отличие от Платонова вождь, как помним, не считал нужным даже упоминать о таких низменных вещах, как «получка».
Становясь бесплатным, «коммунистический труд» сталкивался с серьезной репрезентационной проблемой: он нуждался в постоянном оправдании, в перманентном выдумывании мотивов. Производя тотальную дереализацию экономики, он не только основывался на последовательной морализации экономической жизни (будучи предметом не столько политэкономии, сколько этики и литературы), но и в идеале (в условиях «победы коммунистического труда») создавал ситуацию, при которой этика рассматривается уже не только как источник, но и как результат определенного отношения к труду. Она сама становится дискурсивным оформлением экономики; экономика начинает описываться в категориях этики. Скажем, «товарищество» определяется как «взаимопомощь и взаимная поддержка в работе, достигаемые участием в социалистическом соревновании, честным выполнением своей доли труда, принятых на себя социалистических обязательств, а также готовностью поделиться своим опытом, дать совет и т. п.» [496] То же можно узнать о «принципиальности», «требовательности», «дисциплине» и т. д.