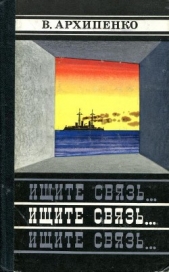Политэкономия соцреализма

Политэкономия соцреализма читать книгу онлайн
Если до революции социализм был прежде всего экономическим проектом, а в революционной культуре – политическим, то в сталинизме он стал проектом сугубо репрезентационным. В новой книге известного исследователя сталинской культуры Евгения Добренко соцреализм рассматривается как важнейшая социально–политическая институция сталинизма – фабрика по производству «реального социализма». Сводя вместе советский исторический опыт и искусство, которое его «отражало в революционном развитии», обращаясь к романам и фильмам, поэмам и пьесам, живописи и фотографии, архитектуре и градостроительным проектам, почтовым маркам и школьным учебникам, организации московских парков и популярной географии сталинской эпохи, автор рассматривает репрезентационные стратегии сталинизма и показывает, как из социалистического реализма рождался «реальный социализм».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Советская поэзия буквально утопает в «плодах свободного труда», как в удостоенной Сталинской премии поэме Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом»:
Критика восторгалась тем, что даже «пейзаж выступает здесь как творение человеческих рук, как красота, созданная социалистическим трудом» [471]. Пейзажными картинами, подобными этой, были наполнены советские медиа: на экранах грохотали стройки и шумели хлеба, на картинах колосились невиданные урожаи и дымили домны, со страниц газет и журналов сияли «счастливые лица тружеников», высились полные пшеницы элеваторы, ломились от товаров полки магазинов. «Красота труда» перетекает в красоту продукта этого труда. Невидная в жизни, она ждет репрезентации. В соцреализме мы имеем дело с занятной антиномией: с одной стороны, труд противопоставлялся «громким словам», с другой – он обречен на немоту и выражает себя именно через слова (как в стихах Чивилихина):
Труд ждет репрезентации. Он репрезентируется как воплощенная красота. Это особого рода красота, видная лишь в определенном оптическом режиме, лишенная «подробностей», которые не то что не прописываются, но намеренно опускаются, поскольку, как точно заметил Михаил Рыклин, «в этой культуре сделано все, чтобы не видеть детали, а созерцать всего лишь собственные представления о том, как это должно быть» [473]. Кроме того, «все события этого дискурса не только не принадлежат субъекту, но в принципе несоизмеримы с конечной способностью постижения. Для отдельной личности они стерильны, а в период своего совершения еще и смертельно опасны» [474]. Смертельная опасность исходит и от советского дискурса о «труде»: этот дискурс лакирует насилие, продуктом которого и стала «красота труда». Пришедшая на смену «заводской метафизике» пролеткультовцев трудовая диалектика сталинизма была диалектикой эксплицитной красоты и имплицитного насилия. Стратегия «красоты труда» была своего рода «техникой безопасности» в условиях этой «смертельной опасности», исходящей от сталинского дискурса о труде. Этот дискурс избегал рефлексии, но тем ценнее проколы в этом намалеванном холсте.
Согласно официальной советской статистике, за четверть века (1924–1950 годы) численность пролетариата в России выросла десятикратно (особенно в годы первой пятилетки). Здесь‑то и происходит встреча этого «пролетариата» с соцреалистическим сюжетом. Кем были эти люди? Прежде всего, конечно, это вчерашние крестьяне, лишенные какой бы то ни было «пролетарской сознательности». Они шли, подобно Ивану Журкину из «Людей из захолустья» Александра Малышкина, с одной целью: «Нам бы только до лета на кусок заработать да ребят окопировать. Набедовались мы больно». Бригадир Ищенко в романе Валентина Катаева «Время, вперед!» приехал «сезонником, землекопом, деньгу сколотить». Катаев пишет о рабочих первой пятилетки: «Были среди них новички, совсем еще «серые» – всего месяц как завербованные из деревни. Были «старики» – шестимесячники, проработавшие на строительстве зиму. Были «средние» – с двухмесячным, с трехмесячным производственным стажем». Не удивительно поэтому, что в «Соти» Леонида Леонова задача Увадьева усматривается в том, чтобы «дробить и мять людскую глину».
На миг позабыв о «красоте», советская критика писала: «С этими людьми, с этой сырой массой, на глазах переформировывающейся в рабочий класс, большевикам Чумаловым и Маргулиесам предстояло совершить величайший технический переворот, по существу, индустриальную революцию, которая и была действительным содержанием первоэпохи советской индустрии. Вот где открывается нам подлинная суть и задача вопиющего с формально экономической точки зрения рекордсменства, этой легендарной «штурмовщины». Задача‑то здесь была далеко не просто экономическая, но социальная. Заключалась она в сотворении рабочего класса из незрелой «сезонной» массы, в интеграции однородного социального слоя из разнородных, в большинстве чуждых ему элементов. Предстояло за ничтожный срок коренным образом переработать аморфный человеческий материал в целеустремленное оструктуренное социальное тело. […] В течение первой пятилетки численность рабочего класса ежегодно вырастала на 21 процент.
Это значило, что меньше чем за одну пятилетку рядом со старым рабочим классом вставал еще один, новый рабочий класс, по численности равный старому! Так можно ли было сделать это без нарушения всех привычных экономических норм и правил, без штурма, в жарком пламени которого сплавлялись, цементировались, сливались воедино разнородные кадры, рушились вековые привычки – компрометировалось то, что казалось святым, и обоготворялось то, что раньше считалось несущественным? Это была массовая психологическая переплавка крестьянства в печах пятилетки, гигантская социальная акция» [475].
Переплавка людей в печах… Если о чем и свидетельствует советский дискурс о труде, так это о старой, как мир, истине: красота требует жертв [476].
В сущности, этот «труд» иначе как в литературе описать нельзя. Он не описывается в экономических категориях, не только потому что экономический дискурс не приспособлен к описанию идеологических фантомов, но и потому, что само применение этого дискурса означало бы отказ от основного – эстетического измерения этого «труда».
Советский труд мало связан с экономикой, но больше с моралью. «Научный коммунизм» учил, что «по мере движения к коммунизму роль моральных стимулов будет возрастать потому, что трудовая деятельность все в большей мере будет выступать как творческая деятельность, как результат воспитания и формирования коммунистического сознания» [477]. Выводы эти вытекали из марксистского тезиса о том, что коммунизм, «царство свободы», начнется «по ту сторону сферы собственно материального производства», когда «прекратится работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью». Отсюда следовал пересмотр самой природы труда: если при коммунизме «труд станет своим собственным вознаграждением» [478], отпадет «сама основа всей […] противоположности между трудом и наслаждением» [479]. Иными словами, при социализме происходит «превращение труда в творчество».
Эти аспекты были развиты в марксизме куда слабее, чисто политэкономического анализа труда (в категориях «деятельности», «присвоения», «силы», «подчинения», «власти»). Между тем экономическое содержание труда сменилось в советском дискурсе о труде его фетишизацией, созданием «трудового» симулякра. Маркс так объяснял причины фетишизации труда (при капитализме, разумеется): «У буржуа есть очень серьезные основания приписывать труду сверхъестественную творческую силу, так как именно из естественной обусловленности труда вытекает, что человек, не обладающий никакой другой собственностью, кроме своей рабочей силы, какого бы он ни был общественного положения и культурного уровня, вынужден быть рабом других людей, завладевших материальными условиями труда. Только с их разрешения может он работать, стало быть, только с их разрешения – жить» [480]. Нет никаких оснований полагать, что при госкапитализме, каковым фактически был т. н. советский социализм, этот механизм перестал действовать.