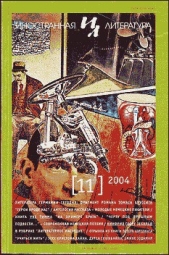История искусства как история духа

История искусства как история духа читать книгу онлайн
Книга выдающегося австрийского искусствоведа Макса Дворжака (1874-1921) — классическое исследование средневекового европейского искусства, не утратившее своего значения и по сей день. Автор рассматривает средневековую культуру как целостный феномен, уделяя много внимания философским и историко-социологическнм аспектам искусства Средневековья. Среди глав книги: «Живопись катакомб: начала христианского искусства, «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи», «Питер Брейгель старший» и др. Книга впервые издается в полном составе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прежде всего, это были благоговение, медитация и возвышение чувств. Пышное весеннее цветение этой области самосознания пришлось на вторую половину XVI века, особенно на две страны — Францию и Испанию. Во французской литературе ее самым прекрасным цветком стала «Филотея» св. Франциска Сальского, произведение, полное жизненной мудрости, соединенной с самыми тонкими психологическими советами, следуя которым люди вызывают внутри себя состояние божественного блаженства, возвышают свою душевную жизнь в направлении ее вечных ценностей и в рамках нормальной общественной жизни могут достичь того жара чувств, который, по словам Монтеня, бывшего в этом весьма компетентным, предоставлял католической церкви щедрую замену за изменивших вере, а в последующее время, перенесенный на светскую почву, он стал важнейшим источником всей сентиментальной поэзии нового времени вплоть до Вертера и Чайльд-Гарольда. Тот новый спиритуализм оказал воздействие также и на изобразительное искусство, как это могут показать нам еще очень мало известные произведения французского маньеризма. Исходя из работ школы Фонтенбло, прежде всего Приматиччо, художники, такие как скульптор Жермен Пилон, Дюбуа, Фремине или живописец Туссен Дюбрейль, гравер Белланж, создавали произведения (как, например это показывает бюст Жана де Морвилье Пилона), исполненные той страшной силы духовного выражения, что после портретов императоров второго-третьего столетий была незнакома искусству, перед нами портрет, в котором физический облик — лишь отражение неистовствующего внутри огня, это подобно тому, что Эль Греко запечатлел в своем автопортрете, написанном несколькими годами позднее. Или они рисуют фигуры и сцены, производящие впечатление иллюстраций к «Филотее». Пример этому — «Три Марии у гроба» Белланжа, в особенности Мария, вся исполненная той духовной концентрации сладостного созерцания чуда, о котором сказано: «тот мир больше не мой и я больше не я, но в сердце сердца моего живут лишь истина и блаженство». Худые, длинные фигуры с маленькими, изящно склоненными головками, с нежным взором и нервными руками встречаются затем и у Эль Греко. Но более того, вся направленность изображения на выражение душевной красоты свидетельствует о том, что Эль Греко знал искусство французского маньеризма и воспринял от него то, что не могло сообщить ему итальянское, а именно — понимание полного преодоления мира через ощущение, что было великим наследием средневекового христианства на Севере. То понимание должно было вести его туда, где это наследие не только дольше всего сохранялось, но и пережило в шестнадцатом веке поразительное возрождение на новых основах, — в Испанию, в страну алюмбрадос и духовных театральных представлений, святого Игнатия и святой Терезы, в страну, где несмотря на Ренессанс и его формы все еще чувствовали и строили в духе готики, и где средневековая мистика, связанная с субъективным углублением, была в полном разгаре.
Две черты были определяющими для личностей, направлявших этот процесс: самонаблюдение и полное преодоление границ натуралистических основ мысли и чувства. «Что я вижу, — говорит святая Тереза, — это — белое и красное такое, как в природе нигде не найдешь, оно светит и лучится ярче чем все, что можно увидеть, и это — картины, какими их не писал еще никто из художников, прообразов к которым нигде не найти, но они — есть сама природа и сама жизнь и самая великолепная красота, какую только можно измыслить». И Эль Греко пытался писать нечто подобное тому, что пережила святая в экстазе, не то чтобы непосредственно следуя за ней, но в том же духе, для которого субъективное духовное переживание стало единственным законом душевного возвышения. Для итальянцев и французов при всех изменениях цели тем не менее всегда оставалась характерной приверженность к последним остаткам объективизации окружающего мира, в Испании, напротив, без оглядки жертвовали последними принципами ренессансного понимания истины и красоты ради выражения внутренней взволнованности; уже до Эль Греко, как можно увидеть на примере «Оплакивания» художника Луиса Моралеса, предшественника Эль Греко в Толедо, соединяли маньеризм Микеланджело с испанской экзальтацией. Подобные произведения, одновременно меланхолические и страстные, конечно, повлияли на Эль Греко, но гораздо больше — общее духовное окружение, оказавшееся способным подвести Эль Греко к тому, чтобы из всех тех элементов нового искусства выражения, которыми он овладел во Франции и в Италии, вывести последние следствия и полностью подчинить природные прообразы своему художественному вдохновению. Его фигуры становятся чрезмерно удлиненными и кажется, будто они не принадлежат этому миру. Вот, его «Святой Иосиф» в Толедо, с прижимающимся к святому Христом и хором ангелов над головой святого: перед нами — не запечатление человека, как это могли сделать тысячи художников до Эль Греко и сотни тысяч после, не считая фотографов. То, что мы видим здесь, ирреально, это — представление, которое не основывается на копировании природы, но в нем внутренние голоса говорят со зрителем. Святой Иосиф и маленький Иисус; о чем мне это говорит? Я вижу человека, некрасивого по своему облику, измученного и изнуренного работой, лишенного грации, плотника и вместе с тем он — не только плотник; он исполнен сверхъестественных смирения и доброты. Этот человек вырастает ввысь через послушание Богу как столб, за который может уцепиться божественный сын человеческий, благодаря этому возникает гармония, льющаяся в сердце зрителя как ангельская мелодия.
Эль Греко часто писал портреты, на которых люди схожи, словно братья, но ведь по сути дела все они более или менее таковыми и являются: маски и тени; иногда же он создавал портреты, которые иначе как трагическими не назовешь, как, например, инквизитора Гевары. Кто не вспомнит перед этим портретом о Великом Инквизиторе, порождении сновидения из «Братьев Карамазовых». Эта съеженная фигура с холодным, пронизывающим взглядом, это не тот или другой человек, но сама судьба. Но прежде всего Эль Греко изображал библейские сюжеты. Иногда в сказочных тонах, как в «Молении о чаше», которое можно было бы назвать цветной сказкой. На заднем плане темная, бесформенная ночь, только на Иерусалим таинственно падает из глубины один луч. Впереди на сцене царят сумерки, в которых, однако, непонятно как, но вспыхивают невероятные цвета: киноварь, желтая охра, краплак. Перед нами — словно волшебный сад, и на этот волшебный сад спускается небесное видение в виде белого облака, на котором склонился на коленях белый ангел.
Чаще, однако, перевешивает характер видения, как в «Воскресении Христа». Словно взрыв подействовало чудо на стражников: один, на переднем плане, брошен наземь, другими овладели пароксизм страха и изумление, тела их дико разметало в стороны, руки их направлены ввысь, будто они схвачены и взметены вверх ураганом. Так возникает страстная устремленность ввысь, которая, усиленная противопоставлением Христа фигурам, отброшенным вперед, делает полет Христа убедительнее, чем это было возможно при помощи всех средств предшествующего искусства, представляя его как сверхъестественное взметание наверх. Еще сильнее «Снятие пятой печати». Пророк зрит наступление великого гнева, видит, как души мучеников и мучениц взывают об отмщении, души тех, кто был удушен, ждут слова Божьего, и каждому из них дается белое одеяние. Но, что прежде всего бросается в глаза, это — разница в величине фигур. Слева, у края, — евангелист, коленопреклоненный, с вытянутыми вверх руками. Позади — воскресающие, в различных позах, частично опирающихся на поздние рисунки Микеланджело, им ангелы приносят одежды. Можно подумать, что Иоанн стоит: это колоссальная фигура по сравнению с другими персонажами. Подняв руки, протагонист смотрит не вперед, но ввысь. В нем происходит нечто страшное, он видит чудовищные явления, на это лишь намекается на заднем плане; это — образ, полный динамики дотоле неведомой искусству всех времен, но одновременно и разрешение проблемы, до той поры, должно быть, казавшейся неразрешимой: глыба, одновременно ставшая духом.