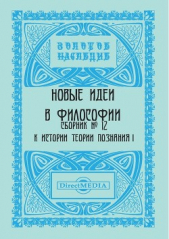История и повествование

История и повествование читать книгу онлайн
Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях. Являясь очередным томом из серии совместных научных проектов Хельсинкского и Тартуского университетов, книга, при всей ее академической значимости, представляет собой еще и живой интеллектуальный диалог.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Грищенко не нашел за что похвалить передвижников. Он порицал их поглощенность содержанием и небрежение специфическими свойствами краски. Не в пример им, Иванов заслуживал восхищения. «Александр Иванов является исключительной личностью в истории нашей живописи, — утверждает Грищенко. — По своим убеждениям и глубокому отношению к искусству он неизмеримо стоял выше своих современников, не только в России, но и в Европе» [334]. Подлинная наблюдательность Иванова сохранила его от пошлости общественно заинтересованного реализма. Но она же сделала его подверженным влияниям самого разного толка. «К сожалению, — пишет Грищенко, — его робкий дух скоро поддавался влиянию ламентаций бездарных назарейцев, господствовавших тогда в Риме, влиянию христианского мистицизма и материализма Гоголя, Штрауса и Герцена. Все это губило его замечательный русский живописный дар» [335]. Иными словами, подобный дар мог быть разрушен любой умозрительной программой. «Мир искусства», к примеру, не принимал реализма, замещая его смесью стилей — романтизма, ретроспективизма, декоративизма, экзотизма и мистицизма. С точки зрения Грищенко, все они — тупиковые [336]. В отличие от Сезанна и Пикассо — подлинных новаторов, черпавших вдохновение в древнем искусстве, — мирискусники не понимают живописи. Лишь «художники молодого русского искусства», отмечает Грищенко, последовали за Сезанном в попытке «начать строить мост к лучшему прошлому родного искусства над провалом ложного реализма и ретроспективного индивидуализма» [337].
Подобную аргументацию принимали отнюдь не все. Критик отмечал, что, хотя двойная перспектива в иконописи может и напоминать расколотые планы в композициях кубистов, расчлененная форма у них совершенно несопоставима с иконописью. Она происходит из совершенно иного мировоззрения и служит иным экспрессивным целям [338]. В числе тех, кто не принимал попытки найти эстетическое родство между старым и новым в живописи, был Николай Николаевич Пунин (1888–1953). Пунин выступил на поприще искусствоведа в 1913 году, став сотрудником отделения христианских древностей Русского музея и напечатав свою первую работу в журнале «Аполлон». В ней говорилось об отношении современного искусства к иконописной традиции [339]. Пунин разделял неприятие Грищенко дидактического реализма передвижников и декоративных, буквальных стилизаций мирискусников. Он, однако, не видел в современной абстрактной живописи ничего от искусства иконы. Икона, утверждал он, отражает прямой контакт художника с природой, а также прямой выход в область духовных значений, а этого нет в модернистской, формальной по преимуществу и строго индивидуалистской живописи.
В своей дебютной работе Пунин порицал современные течения в европейской живописи за пустой формализм, лишенный духовных значений, виня Ренессанс в «ослаблении духовного творчества человеческой личности» [340]. Связывая воедино реализм, импрессионизм и «искусство для искусства», он сетовал на то, что техника стала единственной целью и назначением живописи [341]. «Наше духовное ничтожество, наша буржуазная суетность, наша пошлость, нередко же и наше отчаяние — вот что изнасиловало искусство» [342]. Яркие, мистически насыщенные цвета древних икон контрастируют с бледной, безжизненной палитрой «пленэрного» стиля в живописи. Пунин находит «прославленного» Сезанна «странным и тяжелым». При всей своей одаренности и влюбленности в живопись, к которой Сезанн подходил с «религиозным поклонением», его творчество — безжизненно. Но не Сезанн виной тому, что искусство Европы — в упадке. Он был лишь «жертвой, <…>мучеником варварского реализма» [343]. Что важно в искусстве, пишет Пунин, это «не то, как видят, но для чего видят» [344].
Икона была не источником вдохновения для современных живописцев, по мнению Пунина, а, скорее, противоядием. «Иконописное искусство» можно считать «некоторым откровением, дающим указание на то, как выйти из мертвого застоя европейского реализма к морям вечным и широким, к искусству и свободному и нужному всякой сколько-нибудь достойной искусства человеческой личности» [345]. Для русских, пишет он, иконы «не столько художественное произведение, сколько живой организм, сосуд каких-то особых духовных ценностей, облеченных в форму столь же прекрасную, как и выразительную» [346]. Если иконописец говорил с остальными (обществом) на языке символических коннотаций, современные живописцы были замкнуты на себе и сосредоточены на формальных отношениях [347]. Таким образом, искусство столкнулось с необходимостью выбирать между формализмом с одной стороны, и самовоскрешением через «возрождение забытых традиций» — с другой [348].
Пунин настаивал на отделении образа от эстетики: «Икона есть живописное произведение, художественное целое. Но, вознося иконописный памятник в эту область, хотя и высокой, но обычно эстетической оценки, мы бы лишили его настоящего значения и в значительной мере обесценили. Икона — и это нельзя забывать — не только образец стиля, не только могущество красочных богатств, но некое содержание, воплощение иной жизни и иного душевного ритма, чем та жизнь и тот ритм, которыми до сих пор питались наши художественные чувства» [349]. Религиозная традиция, унаследованная от Византии, укоренила в русской иконописи глубоко духовный характер [350]. Это духовное наследие наделяло образы русскостью: «Столько радости, затаенной и глубокой, в душах, породивших эти иконы! Всей пышной ясностью православия, нежной и державной рукой Церкви запечатлены эти светлые памятники, и в них — черты национальной самобытности сказались с какой-то особенной, с какой-то удивительной остротой» [351].
Мысли, которые так поглощали Пунина в начале его карьеры, снова вышли на поверхность многие годы спустя, когда в 1947 году, незадолго до своего последнего ареста и смерти в сталинском трудовом лагере, он начал писать об Иванове [352]. Советская критика, конечно же, следовала модели, заложенной Герценом, Чернышевским и Стасовым, в которой Иванов виделся все более отдаляющимся от религиозности и приближающимся к реализму, проникнутым интересом к общественной проблематике. «Явление Христа народу» трактовалось как торжество освобождения человечества от бесправия и угнетения. В стилистической манере усматривался прототип позднейших достижений социалистического реализма Работая в стол, Пунин, однако, следовал советской трактовке Иванова, говоря о нем как о художнике прогрессирующих ценностей. Точка зрения Пунина отличается от официальной в том, что он настаивает на сохранении цельности биографии Иванова, нежели на разделении между классическим и славянофильским началом и реалистическим и все более светским направлением периода после 1848 года. Но в этой целостности есть и важный узел. Пунин не видит в отце Иванова конформиста, но рисует его носителем демократических взглядов, передавшихся его сыну. Пунин также не склонен считать, что учеба в Академии художеств препятствовала развитию таланта Иванова. На самом деле, пишет Пунин, влияние Академии не ослабило связь Иванова с русским культурным наследием, восходящим к византийской традиции, которая, в свою очередь, наследовала условностям классической греческой живописи, с ее подчеркнуто «мифотворческим началом» [353].