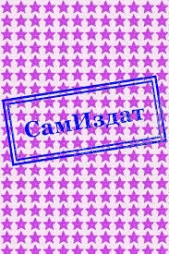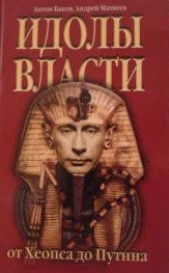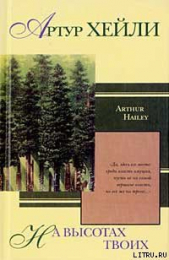Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2
Мандельштамовский текст «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» написан в мае-июле 1931 года и через полтора года опубликован в «Литературной газете» (от 23 ноября 1932 года). Поэт, по его же признанию, только что насильно возвращен из библейской, субботней Армении в буддийскую Москву, возвращен с Юга на Север, из баснословного сияющего прошлого в ночное, закованное в цепи будущее. Буддийственность столицы определяется её строительным размахом («будувать» означает «строить», «созидать»). Уже хлебниковское будетлянство включало весь спектр значений: от буддизма до будущности и пробуждения, от строительства до губительности «буддийц». «Будить» = «губить», и по Мандельштаму («будет будить разум и жизнь Сталин»), но таковы свойства конца эпохи, которую он вынужден понимать и принимать, «ловя за хвост» время:
Марь Иваннами, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, называли ручных обезьянок уличных гадателей. Зверьки вытаскивали листок с «судьбой» из «кассы». Современность — обезьянка, она олицетворяет случай, лотерею судеб, в которой человек не властен. Обезьяны, по сути, две: сморщенный зверек тибетского храма — фатальный тотем необходимости и закона; и Марь-Иванна уличного гадания, ввергающая любопытных в область чистой и оскорбительной случайности выбора. Одна распоряжается прошлым, другая — будущим. Человек эпохи Москвошвея преобразует себя из дарвиновской твари в Творца, Homo Faber. Да, но при чем здесь Пушкин? На него ничто не намекает в мандельштамовских стихах. Но еще тринадцатью годами ранее Мандельштам описал вечное погребение Солнца русской поэзии в полуночной Москве:
Площадная чернь с обезьяньим обликом хоронит (постоянно!) «солнце ночное». И сама Москва — новый Геркуланум. Противостояние поэта и толпы, Солнца и тьмы сменяется в оксюморонном сочетании какого-то вечного ночного светила. Таков новый статус поэта, его символическое бытие. Время жульничает с ним, толпа играет, но и сам поэт-двурушник не чужд надувательству и веселью («В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем…»).
Находящийся в воронежской ссылке Осип Мандельштам прокладывал свои межвременные мосты, где тени соединяли поэтические души гонимых творцов:
Стихотворение написано к столетию пушкинской дуэли. Круг Алигьери — не круг дантова ада, а «сатурново кольцо эмиграции» — кольцо вечного возвращения к истоку. Именно Пушкин в «Пиковой даме» вторит словам Данте о горечи чужого хлеба: «В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной струхи?» (VI, 328). Пушкин приводит слова из XVII песни «Рая» «Божественной комедии». Лебяжья Зимняя канавка, в которой утопилась оперная Лиза, собирает на музыкальный «воксал», как на тризну, все «милые тени» Петербурга. При всей торжественной горечи стиха, Мандельштам не обходится без шутки: «тень грызет очами», как зубами, черствый хлеб гранита, потому что Дант и есть «Зуб». Такое веселое, в темпе allegro, понимание итальянского гения как дантиста-старика, развивающего «зверский юношеский аппетит» к гармонии, в открытую предложено Мандельштамом еще в 1933 году в «Разговоре о Данте»: «Уста работают, улыбка движет стих, умно и веселоалеют губы, язык доверчиво прижимается к нёбу. <…> Кончик языка внезапно оказался в почёте. Звук ринулся к затвору зубов» (III, 218). «Световые формы прорезаются, как зубы» (III, 221). Мандельштамовские черновики показывают, что поверх портрета Данте, не смывая его черт, набросан образ Пушкина: «Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме — il disio! [cтремление, вожделение]. Славные белые зубы Пушкина — мужской жемчуг поэзии русской! Что же роднит Пушкина с итальянцами? Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к нёбу. <…> Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску. <…> Один только Пушкин стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта» (III, 400–401). Эта зрелость заключается в том, что: «В понимании Пушкина, которое он свободно унаследовал от великих итальянцев, поэзия есть роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, как хлеб. Dа oggi a noi la cotidiana manna… (Purg., XI, 13)». Опять горький хлеб, но теперь как насущная роскошь самой поэзии. «Нам союзно лишь то, что избыточно», — так это будет звучать в «Стихах о неизвестном солдате». (Из дантовской строки в эти стихи попадет и «безымянная манна».) «…Я не в состоянии, — признавался пушкинский Германн, — жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» (VI, 320). Германна и губит его собственная жажда твердого знания, математически выверенного инженерного расчета (как, впрочем, губительными они окажутся и для Сальери). У Мандельштама парадокс на парадоксе: мало того, что излишество объявляется подлинной необходимостью слова, эта излишествующая роскошь — насущна, как горький хлеб, т. е. насущнейшее из насущных!
В невошедшем в окончательную редакцию «Цыган» отрывке есть обращение Алеко к младенцу-сыну, где выбор, сделанный героем поэмы — природа, дар свободы взамен гражданского общества и идолов чести. Выбор этот сделан в дантовских категориях «чужого хлеба» и «чуждых ступеней». То, что недоступно отцу, он надеется обрести в сыне: