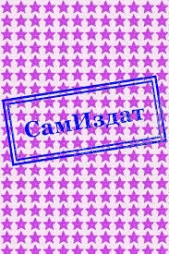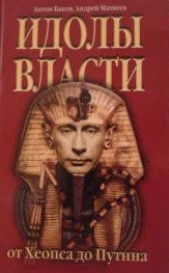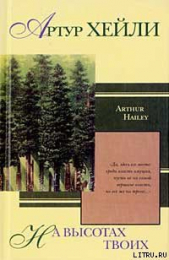Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ходасевич лукавил, речь шла не о реальном событии, а о бунинском сюжете. Но так ли простодушен «антисимволист» Бунин? Похоже, что его стихотворение о дачной встрече с обезьяной произвело столь сильное впечатление на Ходасевича именно своей пушкинской подоплекой. У всех троих действие происходит на даче. У Ходасевича шарманщик — серб, у Бунина — хорват, у Набокова — старый бродяга неизвестно какой национальности, но на его шарманке изображены балканские крестьяне. Таким образом, у всех балканский колорит сцены. И у Бунина, и у Ходасевича — символическое утоление жажды. И у того, и у другого зверек соединяет несоединимое: детство и старость, животное и человеческое, молчание и слово, отчизну и чужбину, царственное и рабски-приниженное, победу и поражение, солнце и черный цвет и т. д. И вообще обезьяна, глядящая с тоской и печальной мудростью, — какой-то страшный подвох, нонсенс, потому что она, обезьяна, — синоним глупой беспечности и игры. «Что такое обезьяна в отношении человека? — вопрошал Ницше — Посмешище или мучительный позор» (II, 8). Оба поэта ломают этот культурный стереотип, давая образ в совершенно ином разрезе. И в первую очередь — благодаря Пушкину. Лицейская и шутливая кличка поэта создает особое измерение самого поэтического дискурса и становится далеко нешуточным кличем для всякого истинного содержания, маской самой поэзии. Это ведомый только посвященным поэтический пароль. «Таково поэтово „отозваться“» (Марина Цветаева). В бунинском тексте нет ни слова о Дарии, пьющем из лужи, но появляется он у Ходасевича из римских литературных источников благодаря другому стихотворению Бунина, напрямую посвященному поэзии — «Поэту» (1915):
Поэзия есть утоление жажды, а поэт обладает даром утоления всех ждущих и жаждующих. И если сначала колодец как образ истинного пути противостоит луже как образу ложного, потом оказывается, что это два этапа в обретении единой истины. Колодец и лужа сменяются алмазом, на поиск которого раб отправляется по пыльным дорогам и — в этом Бунин уверен — с обретенным алмазом вернется. Алмаз — синтез света и тьмы, огня и воды, верха и низа.
Донору творческого вдохновения, бродячей обезьянке Ходасевича в конце концов удается заглянуть «до дна души» поэта. (Лат. «Apollini dono dare» — «дар по обету, жертва». Пушкин просто «переводит» латинскую фразу, говоря «Пока не требует поэта… к жертве Аполлон»).
Опубликованное в 1914 году в сборнике «Руконог» и никогда более автором не переиздававшееся стихотворение Бориса Пастернака «Цыгане» — может быть самая затейливая вариация пушкинской темы:
Цыгане предстают в непременном, почти маскарадно-оперном антураже своего странничества — намиста в смоляных косах («алтыны»), кибитки обоза и версты пути, конская упряжь («бубенцы», «узда», «стреножить»). На всем заметный налет языковой архаики. География обозначена югом — от бунинского Загреба до пушкинской Молдавии. Реализуя самоназывание цыган — «ромэн», Пастернак пишет на сей раз не «роман небывалый» прозой «осенью в дождь», а поэтическим языком, под жгучими солнечными лучами, — страстный цыганский романс. Но тут не вольность, ибо цыган — лентяй-обезроб и смерд. Мартышка — символ вороватой и болезнетворной цыганщины. Цыганщина же — модус поэтического бытия. У Хлебникова — единый образ Обезьяны-Солнца; у Бунина и Ходасевича солнце является непременным атрибутом образа обезьянки, но это уже палящее, знойное и немилосердное светило. Пастернак окончательно разделяет эти пушкинские ипостаси, отдавая, в отличие от предшественников, приоритет солнцу. У Маяковского от обезьяны не останется и следа. Поэтический разговор на равных заканчивается победой над Солнцем русской поэзии. Зачин его «Необычайного приключения…» повторяет слова Ходасевича: «Была жара…». И пристрастным секундантом Пастернак присудит в «Охранной грамоте» победу Маяковскому в этом поэтическом поединке с Ходасевичем под знойным летним полднем Москвы.
В 1929 году Набоков-Сирин написал восторженную рецензию на книгу «Избранных стихов» пушкинского лауреата Ивана Бунина. Здесь чуть ли не впервые явственно зазвучала любимая набоковская тема «цветного слуха»: «Необыкновенное его зрение примечает грань черной тени на освещенной луной улице, особую густоту синевы сквозь листву, пятна солнца, скользящие кружевом по спинам лошадей, — и, уловляя световую гармонию в природе, поэт преображает ее в гармонию звуковую, как бы сохраняя тот же порядок, соблюдая ту же череду. „Мальчишка негр в турецкой грязной феске висит в бадье, по борту, красит бак, — и от воды на свежий красный лак зеркальные восходят арабески…“». Набоков приводит бунинское стихотворение «Огромный, красный, старый пароход…» (1906). «В воде прозрачной» отражается солнечный свет и черное тело мальчишки, а затем свежевыкрашенный борт корабля отражает отражение воды, превращая их в затейливые арабески. Набоков повторяет череду и порядок световой гармонии Бунина, чтобы еще раз подготовить следующую, непроцитированную им строфу — апофеоз преображения нелегкой игры цвета, света и тени в слитный голос: