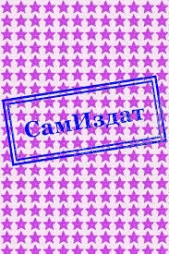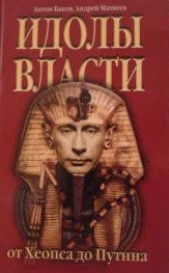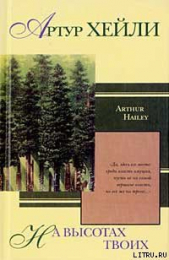Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За пятнадцать лет до Лотмана вольтеровскую подоплеку самоназывания Пушкина выявил Набоков в своих комментариях к «Евгению Онегину»: «Это прозвище юный Пушкин снискал в школе не в силу особенно глубоких познаний в языке, но благодаря своей подвижности и необузданному темпераменту. <…> Я обнаружил, что Вольтер в „Кандиде“ (гл. 22) характеризует Францию как „ce pays ou des singes agacent des tigres“ (страну, где обезьяны дразнят тигров), а в письме к мадам Дюдефран (21 ноября 1766 г.) использует ту же метафору, разделяя всех французов на передразнивающих обезьян и свирепых тигров». Окончательный вывод Лотмана: «Горькая шутка Вольтера, сделавшись лицейской кличкой, с одной стороны, повлияла на мемуарные свидетельства о внешности поэта. Без учета этого мы рискуем слишком буквально понимать документы, вместо того, чтобы их дешифровать. С другой, она вплелась в предсмертную трагедию поэта, давая в руки его врагов удобное „объяснение“ характера, подлинные размеры которого были выше их понимания».
Поэты Серебряного века были, конечно, питомцами «француза» Пушкина, достойными его дешифровальщиками и копиистами. Но сколь бы утрированным и школярским ни был образ великого поэта, они были конгениальны подлинным размерам его судьбы и трагической кончины.
Юный Пушкин, создавая «Бову», перебирает имена певцов, достойных подражания — Гомер, Виргилий, Клопшток, Мильтон, Камоэнс. И лишь дойдя до Вольтера, находит в нем тот образчик остроумия, с которого и собезьянничать не грех:
Пушкин менее всего дурачит простодушного читателя в выборе неподобающего объекта для поэтического подражания. Высокому авторитету того же Вергилия с вызывающей прямотой противопоставлен Вольтер-обезьяна. Фернейский отшельник — не дьявол и не Бог, а обезьяна, то есть нечто крайне несерьезное. Но именно это Пушкин готов принять со всей серьезностью. Так в чем же дело? Обезьянье, заметим, — это человеческое, слишком человеческое, в противовес божественному и дьявольскому. В обезьяньем образе Вольтера, по Пушкину, — суть поэзии и идеальная мера подражания. Как говорили древние, ars simia naturae (искусство — обезьяна природы).
В начале XX века воюющие поэтические стороны спорят за обладание «крепостью пушкинианской красоты». Заводилами выступают два обладателя «пасхальных» инициалов и властно-победоносных имен — Велимир (Виктор) Хлебников и Владислав Ходасевич. Хлебников пишет поэтическую прозу «Ка», Ходасевич — стихотворение «Обезьяна».
В «Свояси» — предисловии к тому своих сочинений, который так и не увидел света, Хлебников в 1919 году объяснял смысл своего детища: «В „Ка“ я дал созвучие „Египетским ночам“, тяготение метели севера к Нилу и его зною» (II, 7). «Африканская» повесть написана, по признанию автора, быстро («„Ка“ писал около недели») весной 1915 года и опубликована в альманахе «Московские мастера» (1916). Сохранилась корректура текста под названием «Ка. Железостеклянный дворец». Этот текст — одно из тех зданий, которое «новый Воронихин» построил на наследственном фундаменте пушкинской мысли, где кирпичами были время и пространство, а вершиной — шпиц Адмиралтейской иглы:
Шла война, и не поэтическая, а убийственно-реальная, и Велимир Хлебников, борясь с нею, искал «меру мира» — законы кровавых повторов в волновом развитии человеческой истории. Горбатые волны-мосты числовых измерений были струнами поэтической «арфы крови», что держал в руках «одинокий певец». Пространственно-временная сетка долгот и широт, веков и тысячелетий, опутывающая «Ка» вольна и затейлива. Карнавальная абсурдность повести проявляется в непрерывной смене личин и пестрой толпе действующих лиц. Если же расставить всех по местам, то выяснится, что в «Ка» действует одно лицо — «Я», Поэт. Все остальные — тени его незабвенных поэтических предков и ипостаси его собственных предсуществований.
Подобно тому как Хлебников, сидя в 1919 году в психиатрической лечебнице города Харькова, создает свою пушкинскую «Русалку», так в 1915 году в Астрахани он пишет пушкинские «Египетские ночи». И не один Хлебников дописывал незавершенные тексты Пушкина. Финальная фраза: «Мы сидели за серебряным самоваром, и в изгибах серебра (по-видимому, это было оно) отразились Я, Лейли и четыре Ка: мое, Виджаи, Асоки, Аменофиса»; а начало повествования помечено следующим образом: «У меня был Ка», с разъяснением этого древнеегипетского понимания человека: «…Ка — это тень души, ее двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен)» (IV, 47). Соответственно, время, исследуемое в повести, движется между серебром и бронзой. Оно протекает в сообществе обезьяноподобных мифических предков; в Древнем Египте времен Эхнатэна (Аменофиса IV); у Асоки — древнеиндийского правителя III века до н. э.; и среди воинов легендарного завоевателя Цейлона царя Виджаи (санскрит. «победа»). Грани серебряного самовара как образа постоянного и победоносного самоэкспонирования зеркально отражают, множа и единя, фигуру Поэта-сновидца и его многоликой Музы.
Свой дар поэту передает Эхнатэн, он же Обезьяна. Лучи этого божественного Солнца-Обезьяны дотягиваются через века до нового певца. Здесь важно понимать, что совершил Аменофис, переименовавший себя в Эхнатэна. Хлебников поясняет в своей брошюре «Время — мера мира»: «…Фараон Аменофис IV совершил переворот, заставив вместо неясных божеств поклоняться великому Солнцу». Недовольные жрецы убивают его, восстанавливая «египетскую ночь». Одновременно убит его двойник — Обезьяна, его «вчерашний день». Заказ на его убийство сделан приехавшим из России «торговцем зверями», купцом, изъясняющимся на ломаном русском языке. Приманкой служит «женщина с кувшином» (гончарным изделием):
«Торговец. <…> Приготовьте ружья, черных в засаду; с кувшином пойдет за водой, тот выйдет и будет убит. Цельтесь в лоб и в черную грудь.
Женщина с кувшином. Мне жаль тебя: ты выглянешь из-за сосны, и в это время выстрел меткий тебе даст смерть. А я слыхала, что ты не просто обезьяна, но и Эхнатэн. <…> Мой милый и мой страшный обожатель. Дым! Выстрел! О, страшный крик!» (IV, 66–67).
Хлебников написал свою повесть не о мистическом переселении душ, а о волнообразных законах поэтической эстафеты. Его собственная тень, его двойник Ка служит посланцем и посредником в контактах с поэтическим духом Пушкина. И Ка — отражение разных граней пушкинского образа — черного солнца поэзии, царскосельского лебедя, вольного цыгана, краеугольного камня русской просодии, крылышкующего кузнечика-певца, остроумной звезды петербургского неба и, наконец, обезьяны. Вот хлебниковское описание «тени своей души»: «Ка был мой друг; я полюбил его за птичий нрав, беззаботность, остроумие. Он был удобен как непромокаемый плащ. Он учил, что есть слова, которыми можно видеть, слова-глаза и слова-руки, которыми можно делать»; «Ка был худощав, строен, смугл. Котелок был на его, совсем нагом, теле. Почерневшие от моря волосы вились по плечам» (IV, 48, 53). Как и его хозяину, Ка в высшей мере присуща склонность к пародированию, вымыслу, школярским шуткам. В одном случае это изображение «мнимого покойника» для попадания в «магометанский рай», в другом — рассказ о «мнимом Мессии» — Антихристе, Массих-Аль-Деджале.