Фёдор Достоевский. Одоление Демонов
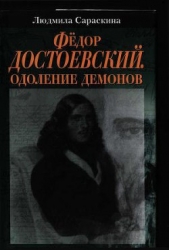
Фёдор Достоевский. Одоление Демонов читать книгу онлайн
«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла…» Литературное признание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.
Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскипой, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с H.A. Снешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов ми|х>ной литературы — Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда пи в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского…» (H.A. Бердяев).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Мне перед Вами покаяться не больно», — писал Достоевский. И все же такое признание и такое настроение были теперь как бы не совсем по теме, особенно если учесть то обстоятельство, что очень скоро замысел «Идиота» привел автора к психологически рискованному и едва ли выполнимому решению — «изобразить вполне прекрасного человека». «Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен… Труднее этого, по — моему, быть ничего не может, в наше время особенно… Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул как на рулетке: „Может быть, под пером разовьется!”».
Под пером между тем возникало так много вариантов, далеких от рискованного замысла, что однажды автор в растерянности остановился перед выбором: « Загадка . Кто он? Страшный злодей или таинственный идеал?»
Герой нового романа, Идиот, будущий князь Мышкин, действительно двоился, движимый противоположными устремлениями, и пробовался вначале на роль злодея, в равной степени доступного и высотам добра, и крайностям зла. Как и автор, «везде и во всем» доходивший до последнего предела и «всю жизнь» переступавший черту, его герой, еще не сформировавшись в «положительно прекрасного человека», говорил о себе: «Или властвовать тирански, или умереть за всех на кресте — вот что только и можно, по — моему, по моей натуре, а так, просто я износиться не хочу».
Сквозь черты задуманного идеального героя мерцал облик сильной, властной натуры, демонической личности — «страшно гордого и трагического лица». Болезненная гордость до такой степени возвышала его в собственных глазах, что он «не мог не считать себя Богом»; безмерное тщеславие и самолюбие рождали в нем требовательную и исступленную жажду правды и подвига.
Достоевский, вынашивая «главную мысль об Идиоте», поначалу как бы примеривал на него судьбу совсем другого героя: «Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижении находит наслаждение. Кто не знает его, смеется над ним, кто знает, начинает бояться». Герой, ощущая в себе переизбыток внутренних сил, страдал неверием; автор проводил его через все возможные pro и contra и замечал: «Он совсем не несчастен, совсем не обижен, но ему всё не по мерке, всё теснит». Порой виделся и трагический финал, предварявший будущий Сюжет: «Он действительно благороден, может быть, даже велик и настоящим образом горд, но не может удержать себя, быть настоящим образом великим и гордым, хотя и вполне сознает настоящую гордость и величие. (Исповедью все окупается потом.)» Жизнь такого героя должна была завершиться или великим подвигом, или великим преступлением.
Когда инфернальная линия была внезапно оборвана, а судьба человека, ищущего спасения на путях христианской любви и глубочайшего сострадания, отведена от бездн и «последних пределов», у Достоевского должно было возникнуть ощущение отложенного замысла.
Образ сильной, демонической личности, который вначале ассоциировался с персонажем «Идиота», не впервые волновал Достоевского. Ему давно представлялось загадочное трагическое лицо, мерещилась мрачная, демоническая фигура; воображение рисовало ее обобщенный художественный портрет; готовый набросок хотелось немедленно пустить в дело. Но как только он пытался как‑то приспособить его для сочиняемого произведения, ничего не получалось: масштаб «сильного» героя оказывался несоизмеримым с персонажами «текущего романа» и поэтому чуждым самому роману.
Заметки и наброски с характеристиками сильного типа откладывались и накапливались. От работы 1866 года остался фрагмент, предназначавшийся, видимо, Свидригайлову, но так и не пошедший в текст «Преступления и наказания».
«NB. Страстные и бурные порывы. Никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход Байроном.Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. Жажда жизни неутолимая. Многообразие наслаждений и утолений.Совершенное сознание и анализкаждого наслаждения, без боязни, что оно оттого ослабеет, потому что основано на потребности самой натуры, телосложения. Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается с утонченностию (отрубленная голова). Наслаждения психологические. Наслаждения уголовные нарушением всех законов. Наслаждения мистические (страхом ночью). Наслаждения покаянием, монастырем (страшным постом и молитвой). Наслаждения нищенские (прошением милостыни). Наслаждение Мадонной Рафаэля. Наслаждения кражей, наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством… Наслаждения образованием (учится для этого). Наслаждения добрыми делами».
«Демон, сильные страсти», — записал Достоевский здесь же, подводя итог программе.
Достоевский (вслед за Аполлоном Григорьевым) называл такую личность «хищным типом». Коллекционируя наслаждения и унижения, чередуя грубые и утонченные «утоления», «хищный тип» более всего ценил «совершенное сознание и анализ каждого наслаждения».
Поэтому, прежде чем заразить героя неистовством страстей и безудержем наслаждений, следовало обучить его искусству самоанализа. Сильно ограничив героя — аналигика в части «утолений», Достоевский сначала попробовал именно анализ. Задуманные еще за год до «Преступления и наказания», «Записки из подполья» должны были поставить кардинальный вопрос: чем обернется анализ, то есть аналитические рассуждения или исповедальный рассказ, в том случае, если это будет рассказ «из подполья», а рассказчик — лицом не столько демоническим, сколько искаженным и изуродованным от страдания и самоказни?
«Записки из подполья» создавались как исповедь антигероя — первоначально повесть и называлась «Исповедь». «По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик: может не понравиться; следовательно, надобно, чтоб поэзия всё смягчила и вынесла», — писал Достоевский.
Подпольный парадоксалист, трагический герой с разорванным сознанием, говорил о себе: «Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить… Я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй…»
«Записки» фиксировали состояние души парадоксалиста в тот острый и переломный момент его развития, когда в своей «подлости и мерзости» ему захотелось исповедаться — написать «сочинение». «И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе… Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени», — указал Достоевский в примечании к повести.
Сорок лет жизни Подпольного, бездарно истраченных («Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие»), внезапно начали осознаваться им особенно болезненно и напряженно. Он чувствовал в себе странные перемены — сочинение «Записок» как раз и обнаруживало их: «Я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, адо сих пор всегда обходил их, даже с каким‑то беспокойством». Возвращалась память; запрет на воспоминание «прежних приключений» снимался, и тогда уже сами воспоминания побуждали к делу.
«Припоминание» еще не было делом; но между моментом припоминания и моментом дела проходило совсем немного времени. «Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды?»
Переход от «только припоминания» к «еще и записыванью» с целью испытания себя «всей правдой» стал пробным шагом для будущего «хищного типа». Шагом тем более грандиозным, что аналогов, где бы испытатель достиг цели, как будто и не было. «Замечу кстати, — говорил парадоксалист, — Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие».






















