Фёдор Достоевский. Одоление Демонов
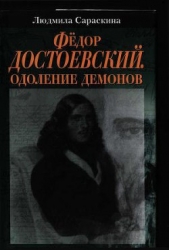
Фёдор Достоевский. Одоление Демонов читать книгу онлайн
«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла…» Литературное признание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.
Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскипой, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с H.A. Снешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов ми|х>ной литературы — Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда пи в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского…» (H.A. Бердяев).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет никаких сведений и о том, что когда‑либо позже Достоевский вспоминал об этой дикой истории. Что касается самой злополучной книжонки, то вряд ли она была ему нужна в личной библиотеке — тем более что ввести ее в Россию легально по цензурным причинам было невозможно.
Ничто, однако, не проходит бесследно; грубая выдумка бесстыжего иностранца, сфабрикованная, как писал Достоевский, «для вреда России и для собственной выгоды», дала повод русскому романисту обдумать и под давлением чрезвычайных обстоятельств сформулировать принципиальные требования к художественным, а также документальным сочинениям, касающимся России и ее истории.
«Люди, называющие себя образованными и цивилизованными, готовы часто с необычайным легкомыслием судить о русской жизни, не зная не только условий нашей цивилизации, но даже, например, географии», — заметил он в этой связи. Профессиональное чутье литератора не обманывало его в убеждении, что от всякой клеветы, как бы она ни была нелепа и безобразна, «все‑таки что‑нибудь остается».
Может быть, поэтому, рассуждая о вреде всякой умышленной клеветы и нарочитых промахов против истины в том самом неоконченном письме редактору иностранного журнала, Достоевский неосторожно объявил: «И, однако, признаюсь, я никогда не взял бы на себя труда обнаруживать в этом случае ложь и восстановлять истину: труд слишком был бы уж унизителен».
Задним числом слово «никогда» выглядело, пожалуй, опрометчиво: «унизительный» труд по восстановлению истины вопреки заведомой лжи был в тот момент уже, как говорится, при дверях.
От фразы же — пусть и в ее отрицательном значении («…я никогда не взял бы на себя труда…») — веяло особым сквозным ветерком, предвещавшим резкую перемену погоды.
«Но вот на днях, случайно, попалась мне на глаза книжонка… В этой книжке описывается собственная моя история, и я занимаю место одного из главнейших действующих лиц».
Наступала пора самому приниматься за описание своей истории.
В контексте занятий и интересов Достоевского лета и осени 1868 года груд по опровержению бульварного писаки выглядел бы и впрямь нелепо и унизительно.
Достоевскому следовало бы публично заявить, что в 1855 году он находился не в Петербурге, а в Семипалатинске, что никакого нового заговора не возглавлял, а служил рядовым линейного батальона, что не умер по дороге в Сибирь, а возвратился в Россию и ныне как частное лицо путешествует по Европе вместе с женой, которая вовсе не постриглась в монахини, а, напротив, родила дочь.
Еще ему пришлось бы добавить, что уже давно революционных убеждений не разделяет и с нигилизмом порвал, что государя — освободителя Александра Николаевича любит до обожания, а также считает себя благонамеренным гражданином России и патриотом.
Однако в намерении — когда наконец оно оформилось — написать роман, связанный с заговорщиками нового поколения, был, надо полагать, один глубинный мотив исключительно личного свойства.
Когда Достоевский сообщал своим корреспондентам, что «сел за богатую идею», что его увлекает «накопившееся в уме и в сердце», что он сильно надеется на новый роман «не с художественной, а с тенден — циозной стороны» («пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»), он заботился не только о том, как бы порезче и поазартнее ударить по революционной партии. «Нигилисты и западники требуют окончательной плети», — темпераментно писал он Страхову; из этого, однако, не следовало, что он захочет ограничиться одними лишь грубыми нападками на политических оппонентов: ведь когда‑то он был с ними и был одним из них.
В страстном желании Достоевского «высказаться погорячее» сквозила, надо думать, не только мысль о нечаевцах, но — прежде всего — о самом себе, о своей собственной истории в ее человеческом измерении. Косвенно Достоевский подтвердил это автокомментарием к «Бесам», когда услыхал о желании наследника Александра Александровича знать, как автор романа смотрит на свое произведение. «Это — почти исторический этюд, — значилось в письме, сопровождавшем экземпляр романа, подносимый цесаревичу, — которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление… Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я. и хотел выразить в произведении моем».
К какой из групп, учитывая свои собственные прежние увлечения, относил себя Достоевский?
«Я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни», — признавался он уже после «Бесов», в статье «Одна из современных фальшей» (1873), ставшей своеобразным послесловием к роману. Здесь он сделал сенсационное заявление: «Позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым,вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем,не ручаюсь, может быть, и мог бы… во дни моей юности». И далее, в порядке извинения перед читателями и для связности текста, добавил вроде бы несущественную оговорку: «Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном».
«Теперь» — означало: после романа и вне романа. А в романе как раз действовал строго зеркальный принцип — чтоб иметь право заговорить о себе, надо говорить только о других. И только об одном себе упоминать «вообще», «безлично» и «в смысле совершенно отвлеченном».
После «Бесов» Достоевский заговорил о давно прошедшей истории с той степенью откровенности, с какой только и можно было высказаться после «Бесов». Сейчас уже не нужно было горячиться и как‑то специально доказывать свою любовь к Отечеству, но следовало наконец сказать правду о былых увлечениях и пристрастиях; такой труд по восстановлению истины отнюдь не был ни смешным, ни унизительным.
«„Монстров” и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного…»
«Я уже в 46 году был посвящен во всю правдуэтого грядущего «обновленного мира» и во всю святостьбудущего коммунистического общества еще Белинским…»
«Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, — те их нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться…»
«В моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства…»
В «Бесах» — в той степени, в какой автор был занят героями и их «многоразличными» мотивами, — он был занят и собой: своими искушениями и своими соблазнами; в этом смысле поиск героя так или иначе оборачивался поиском себя.
Кем был он сам в той давно прошедшей истории — учитывая, что позднее осознал ее как болезнь? В чем видел свою собственную вину и за что осуждал других?
Ведь написал же он, опять‑таки в связи с «Бесами»: «Вот в том‑то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!»
Глава десятая. Навстречу «хищному типу»
Примерно за месяц до того, как в рабочей тетради Достоевского были сделаны первые записи к роману «Идиот», автор в приступе сильного недовольства собой решил изложить в письме к Майкову свои «подлости и позоры».
«Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоров и, может быть, выиграю хоть 2000 франков лишних, а ведь это на 4 месяца житья, со всем, со всеми петербургскими. Гаже всего, что мне и прежде случалось иногда выигрывать. А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде‑то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил».






















