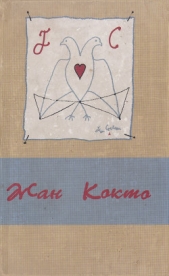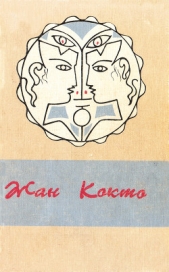Эссеистика
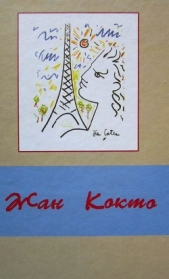
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С того дня я разослал письма, в которых просил вычеркнуть меня из всех списков, и выкинул фрак на помойку.
Х. отказывается от награды. К чему отказываться, если само произведение не против? Единственное, чем можно гордиться, это такое произведение, когда официальное признание вашей работы не может прийти никому в голову.
Многие удивительные покрои одежды были созданы по причине того, что великие мужчины и женщины скрывали определенный изъян.
Анонимное письмо — определенный эпистолярный жанр. Я получил всего лишь одно и то с подписью.
В 1929 году художники и иллюстрированные журналы обнаружили фотографии, снятые снизу, сверху и вверх ногами, которые нам нравились и которые мы использовали в 1914 году.
На афишах, в витринах и шикарных изданиях широко используется то, что составляло беспорядок комнаты, похожей на мою знаменитую комнату на улице Анжу.
Но я ничего не замечал. Я с удивлением наталкивался на статьи об этой комнате. Тот беспорядок казался мне безнадежным и нормальным.
Забавно наблюдать за узким кругом людей, полагающих, будто они идут впереди остальных, и воображающих, что у каждой эпохи есть конец. «Ну, наконец-то! — восклицает сноб образца 1929 года, — можно фотографировать старые доски и подписывать „Нью-Йорк“ или снимать газовый фонарь и подписывать „Этюд обнаженной натуры“, или одновременно показывать китайскую пытку и футбольный матч. В конце концов, мы к этому пришли. Хотя было много трудностей. Да здравствует студия!» Он не понимает, что подобные частные развлечения становятся общественным достоянием, а прочие готовятся незаметно.
Вокруг поэтов, живущих в стеклянном доме, витают легенды. Если поэты прячутся, хоронятся в неизвестном подвале, публика полагает: «Прячешься, значит, хочешь, чтобы мы подумали, будто там что-то есть, а на самом деле ничего там нет».
А если публика смотрит на стеклянный дом, она считает, что «твои слишком простые жесты таят нечто иное. Ты нас обманываешь. Ты нас разыгрываешь», и все принимаются отгадывать, искажать, толковать, искать, находить, обращать в символы и тайны.
Те, кто, приближаясь ко мне, раскрывал секрет, жалели меня и возмущались: им не ведомы преимущества нелепой легенды. Когда меня сжигают, горит чучело, на меня даже не похожее. Дурную репутацию нужно поддерживать с большей любовью и в большей роскоши, чем балерину.
Так я комментирую прекрасную фразу, написанную мне Максом Жакобом: «Не следует быть знаменитым в том, что ты делаешь».
Прижизненная слава нужна лишь для одного: чтобы после нашей смерти наше творчество началось новым именем.
Поскольку я разрешил Луи Муазесу {218}, который достоин всяческой помощи, использовать в качестве идолов для своих вывесок названия моих произведений, люди полагают, что я — хозяин баров, хотя мои привычки и состояние здоровья не позволяют больше туда ходить. Как-то утром я зашел в «Большой шпагат», а «Ужасных детей» знаю только по фотографиям. Что не мешает любителям ночной жизни меня там видеть, а полиции писать на карточке: «владелец „Быка на крыше“, в свободное время — поэт» (sic!). Милая Франция! Притом, что заграницей меня везде обхаживали бы, селили в отелях, предупреждали мои желания. Мои лень в благородном стиле — патриотизм предпочитает неблагодарную Францию. Париж, действительно, одна из немногих столиц, где пока не запрещают никотин. Один мой друг жил в Берлине в гостинице «Адлон». Вечером в ресторане очаровательная личность просит прикурить.
— Вы живете в Адлоне?
— Да, а откуда вы знаете?
— Я — лифтер из Адлона.
В эту минуту, добавил мой друг, я почувствовал вокруг себя пустоту. Вот что происходит в стране, запретившей никотин. Вокруг моего столика не осталось ни мужчин, ни женщин, ни куриц, ни лифтеров — одна пустота.
Мы вскоре получим запрет на гениальность в искусстве, которую приравняют к никотину. Это почти как в России, где последней уловкой Эйзенштейна будет причисление своих кинематографических находок к области сна. «Это был сон!» «Это всего лишь сон», а значит, считается безобидным индивидуализмом.
Я так страстно и вслепую прожил каждый период своего существования, что некоторые из них могут совершенно стереться из памяти. Отметившие их предметы или личности исчезают из памяти, ни за что не зацепившись. Откуда он взялся? Откуда она взялась? Ищу, но не могу найти. Декорации пропали.
Я не имею в виду великих актеров или знаменитые декорации той драмы.
Тест — не Валери
Господин Тест {219} хотел бы обследовать необитаемый остров, где я живу с самого рождения и откуда никуда не могу уехать.
Порой он доходит до берега, бродит туда-сюда и пытается перебороть смертельный сон, навеваемый первой кромкой деревьев. В послеобеденное время госпожа Тест смотрит, как он сидя куда-то уходит, а в кресле остается лишь огромная дымящаяся пустая масса.
Будучи человеком определенного круга, я бы мог отважиться и разглядеть его издали, когда он стоит, прислонившись к дереву, точно к колонне в опере. Но мне страшно покидать круг моего острова, а потом, зачем? Его гордыня никогда не снизойдет до того, чтобы обратиться к аборигенам. К тому же я говорю на другом языке. И остров этот я знаю плохо. Я просто к нему привык. Я его терплю. Я должен отнестись к нему как турист, как Тест, причем как Тест, который не заходит далеко вглубь.
Бесцельные действия
Лафкадио {220} думает, что убивает без пели. Но он выбрасывает через дверь то, что он всегда выкидывал в окно, все то, что отвергает и не может принять его существо даже под угрозой смертной казни.
Когда Лафкадио выталкивает Ф., он будто бы смотрится в вагонное стекло, сдавливает ногтями крыло носа, выжимая жировик. Представляю, как после этой гигиенической процедуры, проявления кокетства (убийство), он садится, вытирается ваткой, одним щелчком смахивает пылинку с нового костюма (1930)
Чего только об опиуме не говорят! После дезинтоксикации я вновь возвращаюсь к неприятностям, которые списывал на его счет и которые он скрашивал; теперь я вспоминаю, что те же неприятности меня мучили раньше, когда я еще не знал опиума. (1930).
Однажды, возвращаясь на улицу Эннер через улицу Лабрюйера, где я провел юность в доме 45 (в особняке, на втором этаже которого жили бабушка и дедушка, на антресольном — мы с родителями, а цокольный этаж-вестибюль был переделен из гаража и состоял только из класса, выходившего во двор и в сад Плейель, усаженный деревьями), я решил победить тревогу, обычно меня охватывавшую и заставлявшую со всех ног бежать по этой улице. Ворота дома 45 были приоткрыты, и я вошел в подворотню. Я с изумлением разглядывал деревья во дворе, где летом катался на велосипеде и раскрашивал марионеток, как вдруг из раньше заколоченного чердачного окошка высунулась бдительная консьержка и спросила, чем я занимаюсь. Я ответил, что пришел взглянуть на дом моего детства, на что она бросила: «Вы меня удивляете», исчезла из окна, спустилась в вестибюль, внимательно смерила меня с ног до головы, и наконец, не поддавшись ни на какие уговоры, почти вытолкала меня на улицу, захлопнув ворота, и этим шумом далекой пушечной канонады обрушив лавину новых воспоминаний.
После такой неудачи я придумал пробежать по этой улице от пересечения с улицей Бланш до дома 45 с закрытыми глазами, касаясь правой рукой стен и фонарей, как я проделывал всегда по пути из школы. Проделанный опыт не дал ощутимых результатов: я понял, что в ту пору я был маленьким, и что сейчас моя рука была выше и дотрагивалась до другого рельефа. Я решил повторить все сначала.