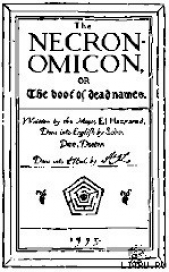Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?

Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? читать книгу онлайн
Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик. В книге рассматриваются самые различные ситуации, в которых статус документа признается высоким или, напротив, подвергается сомнению, — речь идет о политической власти и бюрократических институтах, памяти о прошлом и исторической науке, визуальных медиа и литературных текстах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этом ряду следует особо упомянуть работу кинокритика Андре Базена «Смерть после полудня и каждый день», посвященную документальному фильму «Манолетто» (1951) [358]. Базен разбирает эффект смерти быка, убиваемого на корриде, и воспроизведение этой смерти на кинопленке. Прежде всего Базен обращает внимание на удивительный монтаж этого фильма, который не просто не фальсифицирует реальность, но утверждает ее [359]. Благодаря ему можно более явственно все увидеть и рассмотреть. Он говорит о приспособлении этого монтажа к пространству, где кино фактически выступает свидетелем самой реальности. Но метафизическое зерно этого фильма, как пишет Базен, не монтаж и не режиссура, а смерть. Смерть монтирует, и смерть режиссирует, поскольку рядом с этим эффектом меркнет любая технология. Коррида (как запечатленная смерть быка или возможная, предполагаемая смерть тореро) оказывается тем пространством, которое создается присутствием предсмертного состояния. Оно важно в жизни, но в кинематографе в нем есть нечто совершенно неповторимое. Оно открывает, именно благодаря кинематографу, новый тип восприятия, которое не знакомо ни истории, ни искусству, где смерть всегда лишь задокументирована и мы свидетельствуем о ней как бы постфактум.
То же самое происходит в фотографии. Мы можем много раз сфотографировать умирающего, но сам момент смерти мы теряем. Кинематограф в силу самой его технологии позволяет при этом моменте присутствовать. И поэтому смерть является своеобразным сингулярным событием изображения, то есть уникальным, но при этом повторяемым, касающимся уже не только кинематографа, но и нашей жизни.
Итак, в кинематографе уникальное событие смерти удивительным образом повторяется. Мы можем воспроизвести его заново, повторить присутствие при моменте смерти.
Кинопленка оказывается не столько документом, сколько свидетелем случившегося. Базен проблему свидетельства не обсуждает. Но именно в моменте смерти максимально жестко явлен разрыв между аффективным свидетельством того, что требует своего культурного забвения, и документом, стирающим аффект. Однако смерть лишь наиболее радикальный пример. Не случайно Базен пишет, что момент приостановки объективности текущего времени присутствует не только в смерти, но и в «малой смерти» (la petite mort) — оргазме, «который можно пережить, но нельзя представить, не совершив насилие над природой» [360]. И здесь он делает важное замечание: всякое изображение подобного момента непристойно. Казалось бы, тут можно упрекнуть его в излишнем морализме, но это было бы ошибкой. Он говорит, что в такой момент происходит некое насилие над жизнью за пределами представления. И потому всякая репрезентация события смерти как раз показывает невозможность репрезентации. В этом-то и проявляется элемент непристойности. Но если в случае полового акта в кино еще можно говорить о какой-то моральной (эмпирической) непристойности, то смерть все обнажает. «Смерть, — подчеркивает Базен, — является на экране метафизически непристойной (курсив наш. — О. А.)» [361].
Развивая мысль Базена, мы можем сказать, что любое свидетельство всегда несет в себе элемент непристойности. Ведь если бы свидетельство было пристойным, оно легко бы стало документом. Упоминая в своей статье снятый на камеру расстрел коммунистов в Шанхае, где детально изображено все, в том числе то, как револьвер при выстреле в голову дает осечку, Базен отмечает, что в этот момент никто не может быть равнодушен [362]. Это всех затрагивает. Это момент чистой аффективности, которая прорывается благодаря непристойности самого зрелища.
Нас окружает много вещей, на которые мы предпочитаем не смотреть и которые фактически вытеснены из нашего поля зрения. Все они в той или иной степени связаны с проблемой памяти, что подводит нас к теме свидетельства, с которой постоянно сталкивается документальный кинематограф, но которая с недавнего времени получила новое теоретическое осмысление, в том числе и со стороны историков.
2
Когда мы говорим о свидетеле, то обычно подразумеваем либо человека, непосредственно наблюдавшего некое событие, либо лицо, которому могут быть известны какие-то обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного или иного дела, и которое вызвано для дачи показаний. На первый взгляд складывается впечатление, что вторая ситуация является частным случаем первой, поскольку функция свидетеля в суде — это именно функция подтверждения или опровержения некоего факта или, говоря несколько иначе, удостоверения некоей реальности, которая без свидетельства сама себя не предъявляет. Между тем важно указать на то различие, которое возникает благодаря появлению юридического аспекта. Это различие не вполне очевидно, однако оно одно из тех, что помогают прояснить ряд неявных посылок нашего мышления, касающихся таких вещей, как «очевидность», «объективность», «доказательность», «убедительность», «истинность» и «ложность», а также многих других, которыми мы пользуемся сегодня, фактически одалживая их у XIX века — века науки, века познания. Именно потому, что все эти понятия имеют непосредственное отношение к открытию научной истины, нам кажется, что юридическая сторона вопроса о свидетельстве менее значима, нежели гносеологическая.
Но кто такой свидетель в суде? Со времен римского права функции свидетеля описаны подробнейшим образом и, надо сказать, за прошедшие века претерпели совсем незначительные изменения. Мы же сконцентрируемся здесь только на одном аспекте, который касается статуса свидетеля. Этот статус прямо противоположен статусу другой важной фигуры, участвующей в судебном процессе, — статусу эксперта. Эксперт воплощает в себе функции знания и доказательства. Свидетель же словно заранее лишен этой способности. Он лишь указывает на то или иное событие, причем фактом своей речи. Речь свидетеля и есть тот материал, который должны интерпретировать эксперты в ходе судебного разбирательства. При таком угле зрения понятно, почему материальные факты по судебному делу назывались в римском праве testes muti («немые свидетели»).
Итак, мы обращаем внимание на то, что процедура установления истины нуждается не только в экспертах (ученых, знатоках, профессионалах…), но и в том типе речи, который фиксирует событие в полной наивности, даже в заблуждении. Естественно, что при господстве научного знания, когда истина становится истиной по преимуществу научной, эта функция заблуждения предстает чем-то нелепым, оказывается не функцией вовсе, а сам свидетель и его речь попадают в разряд testes muti. Речь свидетеля мыслится как набор фраз, которые требуют экспертной оценки и интерпретации. Более того, сама эта подчиненность свидетеля экспертизе знания намекает на подчиненный (чисто технический) характер языка. Не случайно своеобразная «реабилитация» свидетельства начинается уже после так называемого «лингвистического поворота», в котором, с одной стороны, участвует хайдеггеровская онтология языка, а с другой — витгенштейновское гипостазирование языка («границы моего мира есть границы моего языка»). Именно в этом контексте следует рассматривать появление в 1983 году книги Жан-Франсуа Лиотара Le Different [363], название которой часто переводят на русский как «Распря», хотя вполне подходит и простое слово «спор». Эту книгу можно считать первой, посвященной проблеме свидетельства и того особого языка, на котором оно высказывается. А свидетельство возникает не в момент тяжбы судебной, но в ситуации дискурсивного разногласия. В каком-то смысле, вслед за Лиотаром, можно утверждать, что свидетельство — это результат столкновения дискурса истины и дискурса справедливости.