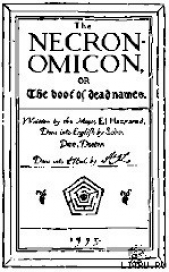Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?

Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? читать книгу онлайн
Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик. В книге рассматриваются самые различные ситуации, в которых статус документа признается высоким или, напротив, подвергается сомнению, — речь идет о политической власти и бюрократических институтах, памяти о прошлом и исторической науке, визуальных медиа и литературных текстах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помнить — удел рассказчика, а «полнота прошлого» является условием соединения истории и мифологии, в которой все рассказы — это рассказы о забытом. Именно с этой «полнотой прошлого» имеет дело историк, когда вписывает любой попадающий ему в руки документ в бесконечно расширяющийся архив, восполняя то забытое, о котором только сам этот документ и способен напомнить. Собственно, против подобной диалектики документа и исторической памяти как раз и выступает Мишель Фуко в знаменитом пассаже из введения в «Археологию знания»: «В своей традиционной форме история есть превращение памятника в документ, „обращение в память“ памяток прошлого, „оглашение“ этих следов, которые сами по себе часто бывают немы или же говорят вовсе не то, что мы привыкли от них слышать. Современная же история — это механизм, преобразующий документ в памятник. Там, где мы пытались расшифровать следы, оставленные людьми, теперь преобладает масса элементов, которые необходимо различить и вычленить, означить и обозначить, соотнести и сгруппировать. Некогда археология — дисциплина, изучавшая немые памятники, смутные следы, объекты вне ряда и вещи, затерянные в прошлом, — тяготела к истории, обретая свой смысл в обосновании исторического дискурса; ныне же, напротив, история все более склоняется к археологии, к своего рода интроспективному описанию памятника» [351].
В этом различении документа и памятника памятник — образование монументальное, то в прошлом, что превышает наши возможности познания, указывает на ограниченность и неспособность исторической науки установить истину факта. Документ же — наивный инструмент историков, который призван не столько открыть нечто в прошлом, сколько указать на нынешние дискурсивные взаимоотношения историка и архива.
Статус документа в исторической науке не вполне прояснен, поскольку документом становится все то, с чем эта наука начинает иметь дело, что, в свою очередь, ставит под сомнение само понимание истории как науки. На этот парадокс как раз и обращает внимание Фуко: «…С тех пор как история получила статус науки, мы постоянно обращаемся к документам, исследуем их и так познаем себя. Для нас важно не просто понять смысл сказанного, но и определить степень его истинности и саму форму его представления; нас всегда волнует, являются наши источники подлинными или подложными, насколько они осведомлены или несведущи, верно ли отражают эпоху или, напротив, лгут» [352]. Все эти вопросы, согласно Фуко, относятся к тому пониманию истории (истории как науки), которое исчезает на наших глазах. Однако, хотя книга Фуко написана четыре десятилетия назад, проблемы подлинности источника сохраняются по сей день, и тип размышлений о документе как о том, что открывает перед исследователями некую истину прошлого, остается господствующим. И когда Фуко отмечает, что «документ более не является для истории неподвижной материей», что «теперь история пытается обнаружить в самой ткани документа указания на общности, совокупности, последовательности и связи», он имеет в виду не только собственные усилия, но и, например, деятельность школы «Анналов». «Подвижная материя документов» противостоит документу как единице исторического архива. Движение эта материя приобретает именно потому, что меняется отношение к истории, которая перестает быть собранием и собиранием фактов вкупе с их интерпретациями и становится инструментом, «с помощью которого обретает надлежащий статус весь корпус документов, описывающих то или иное общество» [353].
Фуко пишет о том, что история, мыслящая себя как наука, фактически занималась только тем, что пыталась превратить память в документ, представить документ как след коллективной памяти. Между тем дисциплина, которую он называет археологией знания, должна была бы заниматься как раз обратным — восстанавливать память не там, где документ «говорит», а там, где он молчалив, противоречив, руинизирован. История, понимаемая таким образом, перестает быть целостной и тотальной, а ее документальная база оказывается под большим вопросом. И дело здесь вовсе не в ее истинности или ложности, а в том массиве документов, который не просто не включен в этот гигантский архив, но находится с ним в состоянии полемики. Документ «говорит», когда он уже превращен в идеологический инструмент, когда история придала ему голос. «Молчаливый» документ становится документом потому, что история, понимаемая традиционно, его игнорирует. Такого рода документы представляют собой некие моментальные очевидности, «восстающие против единого закона, обладающие каждая своим особым типом истории и несводимые при этом к общей модели открытого, развивающегося и памятующего о себе сознания» [354].
То есть, в противовес традиционному пониманию, в соответствии с которым существует единство истории и множественность фактов, документов, свидетельств, Фуко постулирует множественность историй, благодаря чему может быть задействован практически весь корпус документов, включая те, что прежде замалчивались, игнорировались, поскольку они радикально противоречили историческому повествованию либо выглядели нелепо и несерьезно. Таким образом, единство истории (полнота прошлого) вступает в противоречие с полнотой памяти. Последняя, выраженная Фуко через понятие памятника (monument), требует множественности историй, в том числе таких, которые ускользают от пристального ока ценностей, дискурса, разного рода диспозитивов, регулирующих повседневное существование людей. Вывести это существование на авансцену, поместить в режим видимости самих людей, которые практически совпадают с планом своего существования, настолько они неразличимы на фоне истории, — такую задачу ставил перед собой Фуко уже после «Археологии» [355].
Фактически обнаруженный Фуко парадокс можно выразить следующим образом: постоянное несовпадение прошлого и памяти о прошлом обусловлено тем, что, стремясь к овладению прошлым, к пополнению архива новыми и новыми документами, мы неизбежно увеличиваем забытое, ложное, вымышленное, без которого невозможна полнота памяти.
Это становится особенно очевидным, когда в архив вторгается фотографический документ, приносящий с собой избыток знаков ушедшей реальности, смысл которых утрачен. Такие знаки заполняют архив новыми свидетельствами, которые мы не в силах превратить в документы в привычном смысле. Это своеобразные следы прошлого, сигнализирующие о нехватке памяти. Для Фуко ни фраза, ни рассказ, ни архивный документ, ни какой-либо текст не способны восстановить полноту памяти. На нее указывает то, что Фуко называет высказыванием и что представляет собой «элементарную общность дискурса». Фактически высказывание и есть полнота памяти, рассеянная в практике повседневности. Оно постоянно прерывает действие документа, истории, языка. «Банальное настолько, насколько это допустимо, незначительное в той мере, в какой мы себе это представляли, забытое после своего появления так быстро, как только это возможно, мало понятное и неверно понятое — высказывание всегда является таким событием, которое ни язык, ни смысл не в состоянии полностью исчерпать» [356].
В каком-то смысле подобный подход Фуко можно охарактеризовать как «фотографический», поскольку «высказывание» собирает воедино именно те разрозненные следы, которые, располагаясь в пространстве настоящего, в пространстве взгляда, исходящего «здесь и сейчас», заново структурируют прошлое в обход всех рассказываемых о нем историй.
Момент настоящего-в-прошлом, схватываемый фотографией, становится и путеводной нитью археологии знания в ее стремлении вернуть документу память. Но чтобы такое возвращение состоялось, необходимо выявить в банальном, повторяемом, ритуализированном настоящем некий аффективный пласт, позволяющий ему, лишенному языка, обнаружить нечто за своими пределами. Радикальным примером такой аффективной повторяемости может служить смерть. Смерть как синоним конечности существования одновременно неизбежна и неожиданна, повседневна и экстраординарна, банальна и возвышенна… По Мартину Хайдеггеру, она наполняет каждый момент существования, ею определяется бытие. Для Фуко всякий документ — это «свидетельство о смерти» исторического факта, устранение памяти. Согласно Ролану Барту, смертью структурировано любое фотографическое изображение [357]. (Можно даже утверждать, что «смерть» — это метафизическое имя «забытого», о котором речь шла ранее.)