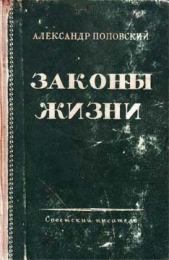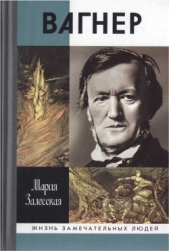Избранные работы

Избранные работы читать книгу онлайн
В сборник входят наиболее значительные работы Р. Вагнера («Искусство и революция», «Опера и драма», «Произведение искусства будущего» и др.), которые позволяют понять не только эстетические взгляды композитора и его вкусовые пристрастия, но и социальную позицию Вагнера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из этого печального состояния литературная драма может найти выход лишь в том, чтобы стать живой, действительной драмой. На этот спасительный путь и в новейшее время пытались встать неоднократно — одни из благородных побуждений, другие, к сожалению, только лишь потому, что театр незаметно стал более доходной статьей, чем книжный прилавок.
Публика, как бы она ни была испорчена, всегда держится непосредственного и действительного. В конечном счете ведь взаимодействие действительных сил и создает то, что мы называем публикой. Высокомерная бесплодная поэзия устранилась от этого взаимодействия, и драмой завладели актеры. Вполне естественно, что театральная публика находится в зависимости только от актерских товариществ. Там, где все эгоистически отделились друг от друга — как поэт отделился от товариществ, к которым он прежде естественно принадлежал, — там распалась и связь, которая делала эти товарищества художественными. Если поэт хотел во что бы то ни стало видеть на сцене только себя и отрицал за товариществом художественное значение, то с гораздо большим правом стремился обособиться отдельный актер, чтобы добиться признания тоже для себя одного; и в этом он был полностью поддержан публикой, которая всегда предпочитает нечто абсолютное. Актерское искусство стало, таким образом, искусством данного актера, личным мастерством, эгоистическим искусством, которое ищет абсолютной славы лишь для себя, для своей личности. Общая цель, благодаря которой драма только и становится произведением искусства, лежит для такого виртуоза где-то в неразличимой дали, и то, что актерское искусство призвано создать сообща, что основывается на таком единении — драматическое произведение искусства, — о нем-то как раз и меньше всего думает такой виртуоз или клан виртуозов; он думает только о себе, о том, что отвечает его личным возможностям, что способно удовлетворить его тщеславие. Сотня самых способных эгоистов, собравшись вместе, не может, однако, сделать то, что может явиться лишь общим делом; во всяком случае до тех пор, пока они не перестанут быть эгоистами; пока они остаются таковыми, единственной! возможной формой совместной деятельности при внешнем принуждении является для них взаимная вражда и зависть — поэтому наши театральные подмостки часто напоминают арену сражения двух львов, на которой мы обнаруживаем в конце концов лишь хвосты съевших друг друга противников.
И тем не менее даже там, где для публики виртуозным мастерством актера исчерпывается представление о театральном искусстве, как это имеет место в большинстве французских театров и даже на оперных сценах Италии, — там стремление к драматическому воплощению проявляется более естественно, чем в тех случаях, когда поэт силится использовать это стремление для собственного прославления. Из среды виртуозов, как показывает опыт, может выйти — при соответствующей художественному дарованию здоровой душе — актер, которому одной своей ролью глубже удается раскрыть самое существо драматического искусства, чем доброй сотне литературных драм. Напротив, там, где искусственная драматическая поэзия вмешивается в вопросы сценического воплощения, она лишь способна полностью сбить с толку как публику, так и виртуозов или попасть при всем своем самомнении в самую позорную зависимость. В таком случае или все ее детища оказываются мертворожденными — и это самый удачный случай, потому что этим никому не наносится вреда, — или она заражает своей исконной болезнью — бессильным желанием, как страшной чумой, еще здоровые члены актерского искусства. При всех случаях она должна действовать согласно непререкаемым законам зависимости: стремясь обрести какую-либо форму, она вынуждена искать ее там, где эта форма была создана действительным живым актерским искусством. У нас, в новейшее время, эти формы заимствуются почти исключительно у учеников Мольера.
В живом, враждебном всякой абстракции, французском народе театральное искусство — если оно не находилось под влиянием двора — существовало обычно само по себе: всем здоровым, что только могло развиться в современном театральном искусстве при огромном, враждебном искусству влиянии наших всеобщих социальных условий, мы обязаны после заката шекспировской драмы исключительно французам. Но и у них — под давлением господствующих повсюду роскоши и моды, убийственных для всякой общности, — законченное, истинное драматическое художественное произведение могло быть создано лишь не полностью. Дух торгашества и спекуляции, ставший единственной связью в современном мире, и у них держал в эгоистическом отъединении друг от друга отдельные ростки истинного драматического искусства. Французская драматургия, правда, создала художественные формы, соответствующие этому жалкому состоянию. При всей безнравственности содержания эти формы свидетельствуют о необычайном мастерстве, с помощью которого это содержание делается предельно привлекательным; формы эти отличаются тем, что они порождены существом французского театрального искусства, то есть жизнью.
Наши немецкие драматурги, ищущие спасения от произвольного содержания своих поэтических замыслов в необходимой форме, представляют себе эту форму, не будучи в состоянии ее создать, крайне произвольно, хватаясь за французские схемы и не думая о том, что они порождены совсем другими, истинными потребностями. Кто действует не под влиянием необходимости, тот может сколько угодно выбирать. И наши драматурги были не вполне удовлетворены, заимствуя французские формы, — в этой смеси не хватало то одного, то другого: немного шекспировской живости, немного испанской патетики, а как дополнение — шиллеровской идеальности или иффландовской мещанской задушевности 57. Все это, весьма хитро приправленное согласно французским рецептам, ориентированное с журналистской сноровкой на последний скандал, с популярным актером в роли поэта — поскольку поэт не научился играть комедии, — с добавкой чего-нибудь еще в зависимости от обстоятельств — таково новейшее драматическое художественное произведение, таков в действительности поэт, пишущий про самого себя, про собственную, очевидную неспособность.
Пожалуй, достаточно о беспримерно жалком состоянии нашей театральной поэзии, с которой мы тут, по существу, только и имеем дело, поскольку мы не собирались включать в круг наших специальных исследований литературу. Мы занимаемся поэзией применительно к произведению искусства будущего лишь в той мере, в какой она стремится стать живым и непосредственным искусством, то есть драмой; нас она не интересует там, где она отказывается от этой живой жизни и — при всем богатстве мыслей — приспосабливается к царящему в нашем обществе безнадежному художественному бессилию. Эта литература — единственное — печальное и бессильное! — утешение одинокого современного человека, ищущего поэтической услады. Утешение, которое она дает, на самом деле — лишь повышенная жажда жизни, жажда живого произведения искусства. Эта жажда является душой литературы — там, где она не дает о себе знать открыто и неудержимо, исчезает последняя правда из литературы. Чем прямее и беспокойнее эта жажда дает о себе знать, тем искреннее в литературе выражается признание ее собственной недостаточности и убеждение в том, что единственно возможное удовлетворение этой жажды — самоуничтожение, растворение в жизни, в живом произведении искусства будущего.
Подумаем, что может явиться в будущем ответом на эту благородную, неутолимую жажду, предоставив нашу современную драматическую поэзию шумным триумфам глупого тщеславия!
Знакомясь с судьбой каждого из трех видов искусства, после того как распался их первоначальный союз, мы должны были ясно увидеть, что именно там, где один вид искусства соприкасался с другим, где возможности двух искусств переходили в возможности третьего, каждое искусство обретало свою естественную границу: оно могло перейти эту границу и, распространившись вплоть до третьего вида искусства, снова вернуться к самому себе, к своему своеобразию, но только подчиняясь естественному закону любви, закону самоотречения во имя общего, дела, во имя любви. Подобно тому как мужчина во имя любви сочетается с женщиной, чтобы через нее раствориться в третьем — в ребенке, и в этом тройственном союзе снова находит лишь себя, но себя уже как бы расширившегося, дополненного, более совершенного, так и каждый из видов искусства может в совершенном, свободном произведении искусства обрести вновь самого себя, увидеть свое существо в этом произведении искусства как бы расширившимся, как скоро он во имя истинной любви, погружаясь в родственный вид искусства, снова возвращается к себе и обретает вознаграждение за свою любовь в совершенном произведении искусства, в котором заключено его расширившееся существо. Только вид искусства, стремящийся к общему произведению искусства, достигает предельной полноты своего существа; искусство же, стремящееся лишь к собственной полноте, при всей роскоши; которой оно окружает себя, остается бедным и несвободным. Стремление к общему произведению искусства возникает в каждом искусстве непроизвольно и бессознательно, когда оно, достигая своих границ, отдает себя другому виду искусства, а не старается взять от него: остается полностью собой, полностью отдавая себя. Оно превращается в свою противоположность, когда оно стремится лишь сохранить само себя: «чей хлеб ем, того песни пою». Когда же оно полностью отдает, себя другому, оно полностью в другом сохраняется, может полностью перейти в третье, чтобы в общем произведении искусства снова полностью быть самим собой.