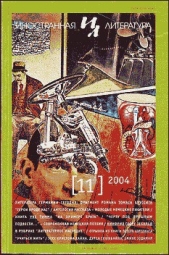История искусства как история духа

История искусства как история духа читать книгу онлайн
Книга выдающегося австрийского искусствоведа Макса Дворжака (1874-1921) — классическое исследование средневекового европейского искусства, не утратившее своего значения и по сей день. Автор рассматривает средневековую культуру как целостный феномен, уделяя много внимания философским и историко-социологическнм аспектам искусства Средневековья. Среди глав книги: «Живопись катакомб: начала христианского искусства, «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи», «Питер Брейгель старший» и др. Книга впервые издается в полном составе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вернемся, однако, к исходной точке нашего изучения. Мы указали, что в конце XV и в начале XVI в. нидерландская живопись переживала кризис, из которого художественная молодежь стремилась найти выход в стремлении к новому — идеалистическому — углублению задач искусства. В этом можно снова ясно заметить упомянутую выше новую тройственную ориентацию духовной жизни.
Сначала были сделаны попытки оживить старый большой стиль. Вновь вернулись к композициям первой половины XV в. и по их образцам стали создавать новые, связывая старые и новые образы с новым религиозным чувственным содержанием. К самым значительным созданиям этого течения принадлежат некоторые произведения Квентина Массейса, как например, «Оплакивание Христа» в Антверпене, проникнутое тем же религиозным пафосом, что и «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена; конечно, не случайность, что одновременно и независимо от Массейса этот шедевр религиозной прочувствованности старонидерландской живописи был скопирован родственным ему по духу кельнским Мастером «Алтаря св. Варфоломея», с соблюдением большой точности форм и средств выражения. Если не забывать различия целей, то это явление можно было бы сопоставить с увлечением старыми мастерами — Джотто и Якопо делла Кверча — со стороны Микеланджело в начале его карьеры. У менее значительных художников это течение привело к ретроспективным заимствованиям и к преувеличенному изображению ощущений и страстей, к чему снова позднее часто возвращался маньеризм.
Гораздо важнее были оба других течения — романистическое и реформационное.
Можно было бы задать вопрос, почему итальянское влияние как решающий фактор так поздно проявило свое действие в Нидерландах? Ответ не труден. До начала XVI в. нидерландское и итальянское искусство можно сравнить с двумя параллельными линиями, не имеющими точек соприкосновения. Как в Нидерландах, так и в Италии художники стремились получить как можно больше от природы, чтобы повысить впечатление верности к природе в изображении, но метод наблюдения действительности и его последняя цель были различны. На севере речь идет об общем обогащении созерцания путем экстенсивного изучения природы в рамках прежней религиозной идеи; в Италии, напротив, дело касается распространения и углубления правил, по которым тела и пространства могли быть изображены в их естественных, объективно познаваемых и допускающих опытную проверку функциях. В то время как северный натурализм все больше разветвлялся на индивидуальные варианты форм, его двойник в Италии шел к идейным решениям, приведшим в конце концов — вместе с разрешением лежавших в их основе проблем — к идеалистическим, сверхиндивидуальным типам и положениям, тем более, что это развитие совершалось в теснейшей связи с возникновением автономного научного мировоззрения, построенного по античным образцам, на почве светского знания и на формальных элементах. Италия получила в силу этого преимущества. К тому времени, когда старые трансцендентные идеи начали терять свою объединяющую силу, у итальянского искусства были уже всеобщие нормы, которыми легко было заменить прежние. Восприятие этих норм и образует фактически самое важное содержание «романизации» нидерландской живописи.
Для течения этой романизации особо важными стали три момента. Прежде всего то, что можно обозначить как внешний аппарат итальянского искусства: сумма принципов, правил и основанных на опыте достижений в изображении пространств и тел, перспектива, анатомия, мотивы стояния и движения, рисунок и пластический рельеф. Очень знаменательно, что этот аппарат не был привлечен для обновления собственного старого изучения природы в нидерландском искусстве, а был воспринят как противоположность ему: ero использовали не для достижения большей близости природе (к чему он должен был вести по своему происхождению), а как средство достижения красоты и значительности, стоящих над индивидуальной передачей природы, как средство искусства, которое должно собственными силами поднять человека на высшую ступень человечности, в область высшей духовности и знания. Это вполне соответствовало общим тенденциям северного гуманизма, питаемого невероятной жаждой знания северных народов. Распадающейся системе позднесредневековой, богословски обусловленной духовной культуры, концентрированной в университетах, он противопоставлял свое духовное направление, основанное на самостоятельном филологическом, историческом и художественном изучении, а также новый, соответствующий ему воспитательный метод. Так как в Германии скоро получили преобладание вопросы церковной реформы, а во Франции центром литературных и художественных стремлений пока что оставался королевский двор, то Нидерланды сделались наиболее важной ареной гуманистических реформ, особенно в области искусства.
Гуманисты-художники во многих отношениях были схожи со своими друзьями в области поэзии, науки, риторики и образования. Многие из них, как Мабюзе [116], пишут «образцовые» картины просто в качестве примеров новых художественных средств и дают перспективные построения или нагие тела, которые не преследуют натуралистических целей (как это налицо у их итальянских образцов), и которыми художник как будто только хвастает. У других мастеров на первый план выступает дидактический характер, и это имело следствием, что сравнительно незначительные художники, как Ламберт Ламбард, пробрели большое значение в роли воспитателей нового поколения. То, чему они учили, было не только овладение новыми элементами воображения, но и новым масштабом, как бы педагогикой новой художественной значительности, коренящейся не в сверхчувственных, а в земных, не в чисто духовных, а в материальных отношениях и связях. При этом южнонидерландское искусство стремилось более или менее самостоятельно превратить новые основные понятия искусства в идеализованные образы. Второй момент «романизации» состоял в том, что не только отдельные художественные средства итальянского искусства связывались в новые композиции, но что и в самих композициях начали стремиться приблизиться к целям нового «классического искусства итальянцев. Особенным откровением в Брюсселе стали картоны для ковров, нарисованные Рафаэлем, они были доставлены в Брюссель около 1517 г. Для молодых ведущих художников, как Барент ван Орлей, они скоро сделались высокой школой большого идеального стиля. Им и было обязано нидерландское искусство знанием синтетического значения линий, равновесием масс, патетической концентрацией и равномерной организованностью всех элементов изображения под углом зрения сверхиндивидуальной формальной красоты, законченности и гармонии. На них основывалось в первую очередь новое восприятие исторической живописи, которое открыло новый мир также и для Дюрера, что можно видеть по его рисункам, возникшим во время его путешествия в Нидерланды или вскоре после того. Для молодых нидерландских художников они стали со своей стороны важнейшим импульсом к путешествиям в Италию, ad fontes [117], под чем понимали не произведения кватроченто, не Донателло или Мантенью, а Станцы и сикстинский потолок, как и античные образцы, лежащие в основе их идеализации мира форм природы. К этому присоединялось также влияние поздних вещей Леонардо, которые, впрочем, оказали только преходящее воздействие главным образом на композицию алтарных картин.
Наконец, и влияние Рафаэля отступило перед захватившим всех прообразом Микеланджело. Это не может быть объяснено только ощущением абсолютного, непревзойденного мастерства, которое вызывали произведения Микеланджело по обе стороны Альп (на них смотрели как на недосягаемую вершину красоты), — была тому и более глубокая причина. В произведениях Микеланджело видели лучшее воплощение и решающее слово новой искомой идеальности, видели искусство, которое, как в древности, превращало людей в богов, создавая образы и представления, в которых естественные, телесные и духовные силы бытия воплощались в качестве носителей истории человечества, как сверхчеловеческие, увиденные sub specie aeternitatis [118]силы. Трагическая противоречивость,которая сопутствовала у Микеланджело этой крайне языческой полярности по отношению к средневековой христианской трансцендентности; его разорванность, которая завела творчество его молодых и зрелых лет в тупик, откуда он сам вырвался со сверхчеловеческой силой, — все это тогда было еще вне понимания его северных современников, и только великий гимн в честь заново героизированного человечества гипнотизировал их. При этом речь шла не только об отдельных образах, которым постоянно подражали, потому что они, казалось воплощали в высшей форме все, что только требовалось от искусства: воплощали норму, по отношению к которой непосредственно данный опыт природы представлялся только дополнением. Гораздо важнее этого был художественный пантеизм, в который превратилось влияние Микеланджело на севере. Не только люди сделались подобными богам, но и все вещи как бы одновременно выросли и получили новую ценность, как выражение лежащих в основе каждой материальной формы творческих сил. Им, этим выражением, было заменено старое иллюстративное значение вещей, воспринимавшихся как примеры великих соответствий откровения. Границы между действительностью и идеальностью, между богом и природой, между небом и землей, между сущностью и атрибутом были стерты ради значительности, которая имеет свое происхождение не по ту сторону действительности, а может быть связана со всем видимым посредством его художественного воплощения. Пастухи или солдаты превращаются теперь в героические фигуры, люди — в богов, и каждое нарисованное архитектурное произведение перерастает человеческие масштабы так же, как оно в средневековом искусстве всегда было меньше человеческих размеров. Художник становится всемогущим властелином, он создает напряжения сил и масштабов, его воля и его смысл заменяют трансцендентную и эмпирическую закономерность и взрывают тем самым существовавшую дотоле систему художественных единств и соподчинений. Только такой художник, как Микеланджело, мог решиться на то, чтобы создать объективно единую картину мира, соответствующую этой героизованной, сверхчеловечески повышенной динамике естественного бытия.