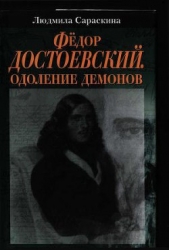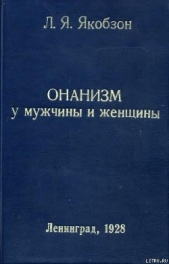МЖ. Мужчины и женщины

МЖ. Мужчины и женщины читать книгу онлайн
Борис Михайлович Парамонов (р. в 1937 г., в Ленинграде, в 1978 г. уехал на Запад) - видный современный философ, публицист, правозащитник Русского Зарубежья, ведущий одной из самых популярных программ «Радио Свобода» - «Русские вопросы», автор четырех книг и множества статей.
В своем сборнике эссе «Мужчины и женщины» Борис Парамонов, серьезно и вдумчиво, без тени дешевой сенсационности анализирующий гомосексуальные подтексты многих произведений литературы и искусства России и СССР, говорит о вдохновении и сублимации, моральном и этическом поиске и творческом вдохновении, стоящем выше узости, ханжества и догматизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это совершенно замечательный текст, который, будь он известен на современном Западе, вошел бы во все культурологические хрестоматии.
Нам нужно вспомнить прежде всего, что в авангардистской эстетике называлось обнажением приема. Лучше всего и подробнее, чем где-либо, это растолковано в работе Романа Якобсона о Хлебникове. Приведу оттуда самый простой и доходчивый пример. Художник на плоскости холста не может дать предмет сразу со всех сторон, но если хочет сделать это, то ему достаточно, скажем, ввести в композицию зеркало, в котором отразится чаемое им дополнительное изображение. А вот кубизм, так сказать, отказался от этого зеркала и начал на плоскости изображать объем. Получилось необычно и даже, можно сказать, уродливо, но по-новому выразительно. Убрав это зеркало, кубисты обнажили прием, или, сказать по-другому, отказались от его мотивировки. Зеркало было мотивировкой. Или возьмем анализ Лоренса Стерна у Шкловского. Он показал, что в «Тристрам Шенди» вся его новизна является обнажением приема, ликвидацией мотивировок. Любое художественное построение имеет свои внутренние, имманентные принципы, «приемы»; искусство – сумма приемов: знаменитая формула Шкловского. Мотивировки приемов дают так называемое содержание: появляется фабула или герой, дающие внешнюю, понятную профанам связь художественного целого. Такой связкой в «Евгении Онегине», скажем, был сам Онегин. Как сказал Шкловский, герой художественного произведения – не более чем нитка, и нитка эта – серая. А ткань художественной вещи, и даже самый ее покрой, – это ее форма, вот эта самая сумма приемов. Стерн в «Тристраме Шенди» показал, что можно дать вещь, не связанную ниткой. То же – «Евгений Онегин»: содержанием его является само движение стиха, и знаменитые его отступления на самом деле не отступления, а суть дела. Евгений с Татьяной отступления, если на то пошло; они – мотивировки стиха.
Гениальность Хлебникова, по Якобсону, – в том, что он стал писать стихи без мотивировок, обнажил приемы стихосложения. Это чистая игра чистыми приемами. Скажем, ему надо дать аллитерацию, – он ее и дает, никак не связанную какой-либо мотивировкой: «Сколько скуки в скоке скалки». Я другой пример вспоминаю: «Голой воблой голос вылез». Искусство вообще, поэтический голос в частности – это голая вобла. Или вот еще гениальные хлебниковские строчки: «Мои друзья летели сонмом. Их семеро, их семеро, их сто». Понятно, что если б поэт не отказался от мотивировки, то семеро у него не было бы равно ста. Такие стихи не требуют внешней сюжетности, они существуют в самом своем звуке, строчки не нужно связывать, каждая из них может читаться по отдельности, самостоятельно. Так и писал Тынянов о Хлебникове: он – звук современной русской поэзии. И вот мы говорим: отказ от содержания, формализм, а на деле этот формализм и являет самую материю, вещность, плоть стиха; и даже не стиха, а, можно сказать, бытия.
Тут дело даже не в левизне нового искусства, а в вечных его законах. «Левый» ли Мандельштам, этот каменный классик (по крайней мере в первый свой период)? Вопрос кажется абсурдным, а между тем сам он писал, что классическая поэзия – поэзия революции, имея в виду под «классикой» скорее архаику: в революционной пахоте чернозем оказывается вывернутым наружу, слова теряют семантику и начинают щебетать. И он, как Хлебников, писал строчками, превращая стихотворение в «классическую заумь» (Бухштаб).
И вот тут, забыв на время о Левидове, мы обратимся к наисовременнейшему культурологу, одному из столпов семиологии французу Ролану Барту. Он в книге «Мифологии» написал нечто о поэзии, удивительно совпадающее с тем, что писали о ней русские авангардисты за полвека до него. Он написал как бы прямо о Хлебникове, хотя, по определению, знать его не мог. Проблема была та же. Барт противополагает поэзию так называемому мифу и пишет:
Существует еще один язык, который изо всех сил противится мифу, – это язык нашей поэзии. Современная поэзия представляет собой регрессивную семиологическую систему. В то время как миф стремится к сверхзнаковости <...> поэзия, напротив, пытается вернуться к дознаковому, пресемиологическому состоянию языка. То есть она стремится к обратной трансформации знака в смысл и идеалом ее является в тенденции дойти не до смысла слов, но до смысла самих вещей. (Это тот самый смысл, что имеет в виду Сартр, – природное качество вещей вне какой-либо семиологической системы.) Поэтому в языке она вызывает смуту, всячески преувеличивая абстрактность понятия, ослабляя до крайних пределов связь означающего и означаемого; в ней максимально эксплуатируется «зыбкое» строение понятия – поэтический знак, в противоположность прозе, стремится представить в наличии весь потенциал означаемого, надеясь добраться наконец до некоего трансцендентного качества вещей, до их уже не человеческого, а природного смысла. Отсюда – эссенциалистские претензии поэзии, ее убежденность, что только в ней, поскольку она осознает себя как антиязык, постигается сама вещь. Таким образом, среди пользующихся словом поэты менее всех формалисты, ибо только они полагают, что смысл слов – всего лишь форма и они, будучи реалистами, не могут ею удовольствоваться. Поэтому наша современная поэзия постоянно утверждает себя как убийство языка, как некий чувственно-протяженный аналог безмолвия. Ее установка противоположна той, что практикуется в мифе: миф есть система знаков, претендующая перерасти в систему фактов, поэзия же есть система знаков, претендующая сократиться до системы сущностей.
И как ложится на это Пастернак:
Вернемся, однако, к Левидову, чтобы разобраться в Барте, да и вообще во всей этой сложной теме.
Левидова статья тем хороша, что, как я уже намекнул антиципирует темы самоновейшей западной культурологии. ЛЕФ, Маяковский, формальное литературоведение во главе с Шкловским были этой антиципацией. Эти люди ухватили главную культурную тенденцию эпохи: то, что Левидов в своей блестящей статье назвал организованным упрощением культуры. Культура пришла к пониманию своей условности, конвенциональности, знаковости – к тому, что так хорошо понимал гениальный нигилист Лев Толстой, которого недаром поминает Левидов. Но тогда и получается, что Ленин, хорошо понимавший Толстого и ценивший в нем именно этот нигилистический пафос, в том же ряду; вернее, это лефовцы старались так думать. Что это и есть подлинно культурная революция: в видении культурных структур самого широкого охвата: искусства, философии, церкви, государства – как искусственных образований, метафизических наростов на теле бытия. Большевицкая, ленинская революция была едва ли не первым шагом на пути к этому культурному перевороту – к разоблачению культуры как одной из идеологических форм. А что такое идеология по Марксу, по настоящему Марксу? Идеология – это отчуждение человека, механизм и процесс, в котором созданные самим же человеком культурные образования начинают им восприниматься в качестве неких метафизических сущностей, имеющих собственную нерукотворную природу, вроде платоновских идей; и культурная формулировка этой ситуации делается идеологией. Идеология, по Марксу, – это не подлинное, превращенное сознание, отражающее факт отчуждения. И у Левидова в пресловутой статье, так напугавшей Карабчиевского, был этот общий знаменатель эпохи найден: революция как разрыв с отчуждением человека, или, на языке искусства, обнажение приема.