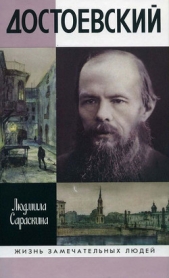Классики и психиатры
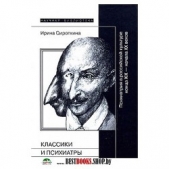
Классики и психиатры читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Революция и вынужденное бегство из России вызывали у эмигрантов разные реакции: у одних — обращение к стоицизму и экзистенциализму, у других — к философии любви как абсолютной ценности и источнику возрождения. Толстовская версия христианства, над которой подсмеивались радикалы предшествующего поколения, в эпоху катастроф многим казалась единственным спасительным средством. Религиозный ренессанс начался в России еще до революции и привел, в частности, к созданию Религиозно-философского общества. После 1917 года это движение продолжалось — теперь уже в эмиграции — при участии Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского, Д.С. Мережковского, Льва Шестова. К ним присоединились и философы, прежде мало интересовавшиеся религиозно-этической проблематикой. Так, Е.В. Спекторский (1875–1951), после революции оказавшийся, как и Осипов, в Праге, опубликовал работу «Христианство и культура» (1925), где исследовал значение религии для самых разных областей духовной, общественной и материальной культуры — философии, науки, искусства, личности, законодательства и государства. Бывший профессор Московского университета И.И. Лапшин (1870–1950) в книге «Феноменология религиозного сознания в русской литературе» показал, что даже те, кого принято считать самыми фанатичными нигилистами 1860-х годов, включая Чернышевского, Добролюбова и Писарева, были в юности глубоко религиозны114.
Психоанализ обсуждался в этом контексте как еще одна теория любви. Реакции на него были, однако, разными. В.В. Зеньковский (1881–1962) — эмигрант, возглавивший Педагогический институт в Праге, — возражал против попыток выводить религиозные переживания из каких-либо других — чем, по его мнению, грешили Фрейд и Дюркгейм. В отличие от него, эмигрировавший во Францию Б.П. Вышеславцев (1877–1954) в работе «Этика преображенного эроса» толковал христианскую любовь как результат сублимации эроса. Эрос в платоновском смысле гораздо шире, чем libido sexualis, — это «влюбленность в жизнь, жажда полноты, воплощения, преображения и воскресения, богочеловеческая жажда»115. «Низменный эрос» можно сублимировать, если есть высшие источники сублимации, среди которых — творчество, а выше всего — Бог. Сублимация может быть полной, только если существует Живой Бог — абсолютная цель любви. Ему вторил кантианец Лосский, назвавший свою философию интуитивизмом: «Пребывание вне Царства Божия есть следствие неправильного использования свободы воли» и поэтому ведет к эгоизму и обеднению бытия. «Наивысшую ценность имеет Бог, и поэтому Он должен быть любим больше всего на свете»116.
Для этой дискуссии была очень важна позиция Осипова — единственного среди ее участников специалиста по психоанализу. Фрейд уже после первого знакомства стал считать Осипова одним из наиболее серьезных своих последователей в России и ввел в состав редколлегии журнала, который он издавал в Вене. Переписка между ними велась по меньшей мере до конца 1920-х годов (известно письмо Фрейда, датированное февралем 1927 года). В ознаменование семидесятилетнего юбилея отца психоанализа Осипов вместе с чешскими коллегами Ярославом Стучликом и Эммануэлем Виндхольцем предлагал установить мемориальную доску на доме в Пржиборе (Фрайбург, Моравия), где родился Фрейд117.
Но Осипов не был слепым адептом психоанализа. Люди были для него интереснее теорий: он однажды признался, что из-за этого никогда не читает в трамвае, потому что «каждый входящий в трамвай человек интереснее и ценнее всякой книги»118. Его называли мастером «интуитивной диагностики». А Лосский также считал, что Осипов смотрел на психоанализ глазами философа и интерпретировал его в духе религиозной метафизики. Лосский приводит цитату из Осипова: «Эмпирическое значение исследований Фрейда не изменится, если в центре поставить не физиологическое влечение, а Любовь в эйдетическом смысле, как абсолютную ценность. В нашем вре-менно-пространственном мире Любовь воплощается в различных степенях, начиная с самой низшей: идентификация (я люблю яблоко и в силу этой любви ем его, т. е. уничтожаю). Затем Любовь выражается в чувственности — экстра-гениталь-ной и генитальной — и нежности. Наконец, Любовь выражается в особых состояниях близости людей, — высшая форма проявления любви среди людей». Очевидно сходство этих идей с взглядами русских философов, товарищей Осипова по эмиграции Бердяева, Вышеславцева, Лосского. Этот последний приписывал Осипову идею о том, что любовь раньше, чем страсть, стала базовым условием человеческой жизни и не может быть сведена к чисто физиологической привлекательности. Он сожалел о том, что болезнь, а затем смерть не позволила Осипову «развить во всех подробностях учение о любви как основном космическом факторе, объясняющем связи людей друг с другом иначе, чем фрейдисты, склонные к пансексуализму»119.
Одной из последних работ Осипова была статья «Революция и сон» (которую он написал в год 10-летия Октябрьской революции и намеревался послать Фрейду). Он сравнил революцию со сном — на том основании, что и здесь, и там происходит реализация вытесненных импульсов, — или с регрессией в нарциссизм, т. е. отсутствием любви, уходом в небытие, смерть120. Осипов намеренно смешивал категории нравственные с психологическими, Фрейда — с Толстым. Сам Фрейд, вероятно, критически отнесся бы к такому толкованию психоанализа: известен его скепсис в отношении метафизики как «пережитка религиозного миросозерцания»121. Но с точки зрения русской культуры такое философствование было уместно и даже необходимо: поколение «детей» должно было совершить переход от идеологии «отцов» к новой психотерапии, не забыв «на той стороне» ни деятельного гуманизма земских врачей, ни учения Льва Толстого, ни психологизма русской литературы. Посреднические функции, взятые на себя Осиповым и его современниками, заключались не только в том, чтобы перевести и издать западную литературу, создать русскоязычную терминологию, воспитать новое поколение психотерапевтов, но и в том, чтобы «перевести» психоанализ и психотерапию на язык русской культуры. Эта роль (престиж которой в науке, увы, невысок) Осипову и его коллегам замечательно удалась. Залогом успеха было то, что психотерапия и воспринималась, и подавалась им через литературу, с иллюстрациями и комментариями, взятыми из произведений Толстого, Достоевского, Гоголя, Гончарова. Сам Осипов признавал за литературой глубокий психотерапевтический эффект. Так, он считал, что в «страшных рассказах» Гоголя и Достоевского «утверждается преодоление всяких страхов путем признания абсолютных ценностей», и советовал невротикам читать эти произведения122.
Осипов не написал законченной работы с изложением своей концепции психотерапии, как вообще не издал ни одной монографии. Вплоть до смерти он работал над рукописью, озаглавленной «Поликлиника неврозов», в которой хотел обобщить более тысячи изученных им случаев и дать новую классификацию неврозов (в частности, расширив область психоневрозов и отнеся к ним, наряду с истерией и неврозом навязчивых состояний, еще и неврастению, ипохондрию, циклотимию и наркоманию). Но закончить рукопись не смог — «очень допекали живые невротики»123. В эмиграции он продолжал и свой философский труд «Органическая натурфилософия в современной русской науке». Из него опубликован лишь один отрывок, озаглавленный «Жизнь и смерть», — размышления ученого о вечных вопросах в духе Толстого. В свое время Толстой написал эссе, которое сначала назвал «О жизни и смерти», но затем решил опустить слово «смерть». Он объяснял: «для меня это слово потеряло совершенно то значение, какое я ему придавал в заглавии»124. Осипов оставил «смерть» в названии своей работы, но утверждал в ней то же, что Толстой: жизнь сама по себе есть не абсолютная ценность, а возможность осуществления абсолютной ценности. «А смерть? Смерть в биологическом смысле неизбежна, но ничего страшного не представляет. Наполеон говорил, что только врачи и священники делают смерть мучительной»125.