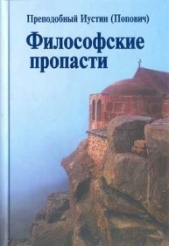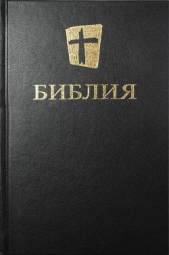Мифология богини

Мифология богини читать книгу онлайн
Данное исследование ставит своей задачей описание основных параметров системы представлений, характерных для эпохи так называемого `матриархата`. До сих пор факт существования подобной системы находился вне поля зрения ученых, что, по сути, лишало смысла любые теоретические исследования в области мифологии. Между тем, по мнению автора, реконструкция `идеологии матриархата` вполне возможна при соблюдении одного условия чисто негативного характера - следует отказаться рассматривать мифологию непременно сквозь призму тех или иных, более или менее фантастических концепций и ограничиться при ее исследовании чисто логическим анализом. Эффективность подобного метода автор демонстрирует на материале `Одиссеи` (V-ХIII песни), предстающей при подобном подходе как вполне связное (разумеется, с содержательной, а не с формальной точки зрения) и осмысленное целое. Читателю предоставляется возможность убедиться в том, что `Одиссея` излагает, по сути, основные, `системообразующие` мифы `идеологии...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первыми мы не слывем в искусстве кулачного боя, да и в бойцовских потехах примером другим мы не будем; бег – то дело другое, здесь нам не равняйся, и никто лучше нас не постиг мореходной науки. Нам по душе пиры, хороводы и звуки кифары, любим мы перемены одежд, сон и теплые ванны.
Нельзя сказать, чтобы эта характеристика не вызывала вполне определенных ассоциаций, но прежде чем прямо назвать цивилизацию, ей соответствующую, укажем ее главную отличительную черту: «перемены одежд» и «теплые ванны» не следует в данном случае рассматривать как «просто сибаритство». Это, если угодно, ритуал – но не в современном понимании этого слова, подразумевающем, как правило, нечто сугубо формальное и не самоочевидное как ценность, – а «живой ритуал», непосредственно вытекающий из специфического восприятия действительности. Специфичность же этого восприятия заключается в отсутствии столь существенной (если только не определяющей) черты современной цивилизации, как «страх смерти». Феаки, заметим, отнюдь не боятся «менять одежды»: для них это своего рода «игра», если угодно «забава», и отношение их к «роковым вопросам бытия» – выраженное в терминах «сна» и «теплой ванны» – лишено даже намека на героический пафос.
Впрочем, как ни привлекательно это «легкое» отношение к миру, усвоить его «современному человеку» отнюдь не легко – особенно «современному западному человеку», воспитанному в преклонении перед «величественным христианским аскетизмом» с его принципиальной, онтологической враждебностью именно к «перемене одежд» и к воде как проявлению «естественного начала» (чего стоят хотя бы бесконечные предания о подвижниках, годами «не мывшихся и не снимавших рубищ»). Подобная идеология, порожденная, по сути, не чем иным, как дошедшим до истерического накала «страхом смерти», продолжает (пусть даже и на бессознательном уровне) оставаться «определяющим общественное сознание фактором», из чего нетрудно понять, почему выдвигаемые «современным Западом» идеалы «комфорта», «мира и любви» и т. п. выглядят на практике неубедительно, неестественно и, до определенной степени, «наигранно»; Россия, прошедшая здоровую школу «коммунистического воспитания», находится в этом смысле в более выгодном положении, – хотя распространившиеся в последнее время попытки «вернуться в прошлое», до крайности бессодержательные и «бесстильные», отнюдь не свидетельствуют о том, что преимущество это осознано в полной мере.
И тем не менее следует отметить, что ни одно из вышеприведенных соображений не отменяет того факта, что европейская цивилизация существовала и существует только в силу достаточно мощного «антиэнтропийного» импульса, присутствующего, если можно так выразиться, «территориально» и не зависимого от доминирующих идеологических систем. Если позволить себе образное выражение, этот импульс вполне может быть описан как «наследие феаков»; «цивилизация феаков» представляет собой, по сути, не что иное, как «абсолютный культурный ориентир», вопрос о возможных «исторических координатах» которого получает, таким образом, принципиальное значение.
В разрешении его могут помочь некоторые, на наш взгляд, довольно существенные указания самой «Одиссеи». В частности, примечателен разговор, который Одиссей, «только что вернувшийся от феаков», заводит с представшей пред ним в образе пастуха Афиной. Одиссей, верный своему неизменному «лукавству», начинает рассказ словами: «А я вот прибыл с Крита», – и повествует далее о вымышленных обстоятельствах, заставивших его этот остров покинуть. Теми же словами начинается и другая история, которую Одиссей рассказывает на сей раз уже Пенелопе; в ней изменен сюжет, однако еще более усилена «критская тема»: дается развернутое описание острова, а рассказчик выдает себя теперь уже за «внука самого Миноса», – причем этот вымышленный «внук Миноса» отнюдь не утрачивает связи с реальным Одиссеем: он «встречал его на Крите», когда тот причалил «в скалистой гавани Амнисоса, рядом с пещерой Эйлейтюйи». Упомянутая Эйлейтюйя – покровительница родов, выводящая, согласно Павсанито, «детей на свет» и изображаемая, соответственно, «с факелом в руке»; тот же Павсаний ссылается на «древнейшего» поэта Олена, называвшего «прекрасноткущую» Эйлейтюйю богиней судьбы и утверждавшего, что древностью она превосходит самого Кроноса; Эрос является ее сыном. Иными словами, перед нами «6ожественная ткачиха», объединившая в себе черты Афродиты и Персефоны; упоминание о том, что Одиссей причаливает рядом с ее пещерой (о символизме пещеры говорилось выше), имеет, следовательно, вполне определенный смысл. Если отождествить (что мы, собственно говоря, уже и сделали) остров феаков с Критом, станет ясно, что Одиссей отнюдь не является на этом острове просто «гостем»; по сути, он прожил здесь целую жизнь, – он и сам феак, не менее прочих феаков «любящий перемены одежд»; вот так, «меняя их по пути», и попадает он в «гомеровскую эпоху», где его встречает новый, радикально переменившийся и более не узнаваемый Крит. Именно об этом «новом» Крите и идет речь в разговорах с Афиной и Пенелопой; подлинный Крит, «морская держава феаков», отошел в область преданий и приобрел характерные сказочные черты потустороннего царства.
Однако «предания» во многом определяют действительность; воспоминание о минойской цивилизации, перешедшее на «архетипический уровень» в виде легенды о «золотом веке», было и остается, по сути, определяющим для европейского самосознания моментом (примечательно, что заслуга наиболее внятного и развернутого изложения этой концепции принадлежит нашему соотечественнику Ф. М. Достоевскому). Среди «ценностей» европейской цивилизации (если, разумеется, понимать слово «ценность» в его буквальном значении) едва ли можно назвать такую, которая не была бы символически предвосхищена в описании образа жизни феаков; вопреки расхожим представлениям о «наивной безыскусности золотого века», им не была чужда даже такая «характерно европейская» черта, как «техническая одаренность». Выше мы говорили уже о «похищенной с Крита» золотой собаке Реи, – точно такие же золотые псы, сделанные Гефестом, охраняют вход во дворец Алкиноя, а пиры, которые тот устраивает своим гостям, освещают в ночное время некие «золотые отроки», – из чего можно сделать вывод, что не только собаки, но и прислуга во дворце сделана из золота. Аполлоний Родосский, развивая тему искусности минойских мастеров, повествует уже об огромном медном великане, трижды в день обегавшем весь Крит и охранявшем его от непрошеных гостей; согласно же Овидию, обитатели Крита начинали пробовать свои силы уже и в «области воздухоплавания».
Впрочем, технические свершения минойской цивилизации произвели впечатление не только на греко-римский, но и на западно-семитский мир: угаритские источники упоминают о критском мастере по имени Ktrwhss («умелый и мудрый»), строившем «волшебно прекрасные дворцы» и снабжавшем их всевозможной роскошной утварью собственного изготовления. Подобное единодушие источников может отчасти скорректировать ставшее довольно распространенным в последнее время представление о том, что «техника непременно должна подавлять духовность»; «техника» сама по себе «ничего не решает», и определяющее значение следует видеть исключительно в векторе развития цивилизации. Киклопы, надо заметить, в техническом отношении были весьма примитивны.
Однако вернемся к Одиссею. Его пребывание на острове феаков подходит к концу, наступает время прощального пира. Феаки раздумывают о том, «что бы еще подарить Одиссею», сам он поглядывает на близящееся к закату солнце: «так уставший пахарь дожидается вечера, сулящего ужин и отдых»; корабль в гавани уже ждет и отправится в путь с последними лучами заката. Метафора с пахарем усиливает высказанное выше предположение о том, что Одиссей, «по сути, прожил среди феаков целую жизнь», – усиливает ввиду устойчивой и универсально распространенной ассоциации «жизни» с «трудовым днем» («Когда к ночи усталой рукой допашу я свою полосу», – и т. п.); «восстановление сил», «ужин» и «отдых» должны подразумевать в данном случае не собственно «возвращение на Итаку», а некое предшествующее ему «промежуточное состояние»; Итака – это уже «новый день», «новая жизнь». Солнце заходит. Одиссей прощается, последние слова его прощальной речи обращены к царице Арете. Вестник и служанки, которым Арете поручила корзины с одеждой и съестными припасами для Одиссея, провожают его на корабль. На палубе уже разостлана постель, Одиссей ложится и засыпает – сном, «очень похожим на смерть», «приносящим забытье всех, сколько было их, бед». Гребцы садятся за весла, и корабль устремляется в ночное море.