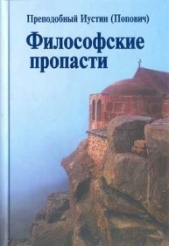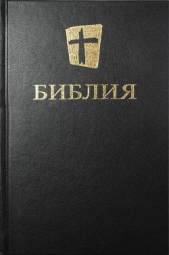Мифология богини

Мифология богини читать книгу онлайн
Данное исследование ставит своей задачей описание основных параметров системы представлений, характерных для эпохи так называемого `матриархата`. До сих пор факт существования подобной системы находился вне поля зрения ученых, что, по сути, лишало смысла любые теоретические исследования в области мифологии. Между тем, по мнению автора, реконструкция `идеологии матриархата` вполне возможна при соблюдении одного условия чисто негативного характера - следует отказаться рассматривать мифологию непременно сквозь призму тех или иных, более или менее фантастических концепций и ограничиться при ее исследовании чисто логическим анализом. Эффективность подобного метода автор демонстрирует на материале `Одиссеи` (V-ХIII песни), предстающей при подобном подходе как вполне связное (разумеется, с содержательной, а не с формальной точки зрения) и осмысленное целое. Читателю предоставляется возможность убедиться в том, что `Одиссея` излагает, по сути, основные, `системообразующие` мифы `идеологии...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако, прежде чем приступить к указанной теме, необходимо разрешить следующий немаловажный вопрос: имеют ли феаки «Одиссеи» какой-либо реальный исторический прототип, или (как нередко считают) это народ целиком и полностью «фантастический»? В пользу последнего предположения могут быть приведены, в частности, слова царя феаков Алкиноя, который, пообещав Одиссею, что «отправит его домой», добавил:
Кормчие нашим ладьям не нужны, не нужны и кормила, ибо разумны они и знают, кому куда надо, и во мгновение ока измерят соленую бездну, странника в край родной доставляя, –
ничуть не страшны им
бури и мели, и с берега их не приметишь,
ибо туман скрывает их вечный...
Описанные здесь корабли, как можно видеть, «необычны»; еще более усиливает «ощущение необычного» сообщение о том, что Одиссею предстоит отправиться в плавание ночью и все время плавания провести во сне
непробудном, сладчайшем, едва отличимом от смерти.
Выше мы уже упоминали о ладье Диониса, изображенного, между прочим, возлежащим – так, как будто «только что проснулся» или, наоборот, «готовится заснуть»; на наш взгляд, вполне логично было бы предположить, что и корабли феаков суть не что иное, как «корабли душ», – по крайней мере, такое предположение смогло бы достаточно удовлетворительно объяснить их «невидимость», «разумность в определении цели» и «ночное время плавания», равно как и мотив «сна, подобного смерти». Отметим, что мифологема «корабля души» относится к числу универсальных, известных как «на Западе» – о чем свидетельствует, в частности, А. Н. Афанасьев, приводящий общеевропейское поверье о душах, уплывающих в предназначенное для них царство «на корабликах из яичной скорлупы» (яйцо, заметим, может рассматриваться как еще один символ uteri materni), – так и «на Востоке»: в Японии, к примеру, существует обряд, в соответствии с которым «в седьмой день седьмого месяца» пускают по реке небольшие, сделанные из тростника лодочки; весьма примечательно название обряда – «нэбута нагаси» («плавание спящих»). Таким образом, если этот выстроенный нами контекст уместен, мы получаем возможность сделать довольно существенное уточнение касательно царицы Арете, от которой, как мы помним, напрямую зависит возвращение Одиссея домой: по сути, ее можно сопоставить с самой Персефоной, «возвращающей души к земной жизни», – во всяком случае, подобное сопоставление подтверждается целым рядом сопутствующих моментов. Приняв нашу версию, читатель сможет увидеть в новом свете такие подробности, как «ванна», которую Арете велит служанкам нагреть для Одиссея, и «плащ с красивым хитоном», которые она Одиссею дарит; отметим особо, что в эти одежды Одиссей должен облачиться не сразу, а лишь по прибытии домой – деталь, безусловно, находящаяся в полном соответствии с концепцией «царства душ». Весьма многозначительны и слова, с которыми Арете, укладывая подаренные одежды в драгоценный ларец, обращается к Одиссею:
Крепко ли заперт ларец, убедись и для верности, странник, прочной веревкой его обвяжи, чтоб ничьи не настигли козни тебя, пока спать ты на палубе будешь.
Здесь уместен вопрос: чьи, собственно, козни могут угрожать Одиссею в пути, если домой он поплывет на корабле «дружественных феаков» и предостережение исходит не от кого-нибудь, а от их же собственной царицы? Возможность
ответить на этот вопрос представится ниже, пока же отметим, что Одиссей принимает слова Арете как само собой разумеющиеся: обвязав ларец веревкой, он затягивает ее в «хитроумный узел», которому его, как особо отмечено, обучила «сама владычица Кирке». Таким образом, мы доходим до пункта, где оба сюжета совпадают: обещание «возвратить домой», которое дала Одиссею Кирке, выполняет Арете, типологически близкая последней в качестве хозяйки «царства душ»; «хитроумный узел» в этом контексте вполне допустимо понимать как еще один вариант «дана» – своеобразный залог «успешности нового воплощения».
Таким образом, у нас есть довольно веские основания предполагать, что остров феаков представляет собой, по сути, не что иное, как метафору загробного мира, каковыми, безусловно, являются остров Калипсо и остров Кирке. Дополнительный аргумент в пользу данного предположения предоставляет царящее в саду Алкиноя «вечное лето», поскольку «царство душ» нередко описывается именно как «страна вечного лета» (классическое развитие этой темы дает кельтская мифология), – и все же, несмотря на все аргументы, мы не стали бы спешить с выводом о «чисто символическом» значении страны феаков: слишком много «конкретно-бытовых» и явно находящихся за пределами «символического пространства» деталей предлагает рассматриваемый нами текст.
Возьмем, к примеру, описание устроенного феаками состязания: «все бегут, поднимая ногами пыль», но Клютонеос (точное указание имени в данном случае явно не имеет никакого дополнительного «символического смысла») «всех опередил», – причем опередил не «вообще», а «на длину борозды, которую за раз проходит упряжка мулов»; затем следует борьба – здесь первый Эврюалос; Амфиалос одолевает всех в прыжке, Элатреус – в метании диска, кулак же оказывается самым тяжелым у Лаодамаса. Однако моральную победу одерживает все-таки Одиссей: «местное юношество», позволяющее себе иронические замечания, явно «нуждается во вразумлении», и вразумление следует:
Быстро вскочил Одиссей и, каменный диск ухвативши, раза в два потяжелее всех прочих, метнул его с силой: мощно тот загудел, стремясь к отдаленнейшей мете, все же от страха присели к земле – не до шуток уж было, –
эффект, как говорится, налицо, но Одиссей подчеркнуто скромен:
Ну, примерно вот так... Попробуете, может, и из ваших кто докинет (слова, несомненно, встреченные недоверчивым молчанием), ну а я потом еще раз попытаюсь: может, еще дальше получится. Впрочем, если кто хочет в кулачном бою или в борьбе себя проверить – я тоже не возражаю. Или из лука вот пострелять, – помнится, еще товарищи удивлялись: всякий раз как дело завязывается, сколько человек ни стреляют – первый убитый всегда мой. И копье случалось бросать так, как иной из лука не выстрелит. Вот только с бегом, боюсь, не получится: тут ведь упражнение нужно, а какие уж там на море упражнения.
Одиссей, надо заметить, исключителен в своем умении «выдерживать верный тон», однако «освещение» в данном случае весьма далеко от «эпического стандарта» с его не всегда умеренной гиперболизацией и не выходит за пределы сдержанного и несколько иронического одобрения – что можно рассматривать как дополнительный аргумент в пользу гипотезы Сэмюэла Батлера. Б определенном смысле мы можем говорить даже об «автопортрете Навсикаи» или, по крайней мере, о присутствующем в тексте моменте «откровенно личного», выходящего за символические или «6ытоописательные» рамки характера: мы видим, как Одиссей, «свежий после ванны» и преисполненный ненавязчивого достоинства, отправляется пить вино с «уважаемыми людьми» острова; «как-то неожиданно», «вдруг» он замечает у входа в пиршественную залу Навсикаю: «стройная, серьезно-внимательная», она спокойно дожидается приближения Одиссея и обращается к нему со сдержанной, учтивой, но отнюдь не холодной речью: «Радуйся, чужеземец, и, когда ты вернешься в свою землю, вспоминай о той, кому причитается выкуп». Под «выкупом» здесь подразумеваются, конечно, не «котлы и треножники»; память – вот, по сути, единственное, чем может отплатить Одиссей Навсикае, и он не остается глух к этому предельно корректному намеку на расположение: «Всю свою жизнь я буду обращаться к тебе, как к богине, ибо кто, как не ты, меня к этой жизни вернула». Ритуальный подтекст данного высказывания очевиден, однако смысл сцены не сводится только к ритуалу: здесь есть и «что-то еще», некий весьма определенно прочитываемый «личный момент».
Отметим и еще один эпизод, который также не может быть сведен к «чистому символизму». Алиос и Лаодамас развлекаются и развлекают зрителей: схватив «красивый пурпурный мяч», сделанный «разумным Полюбосом», они подбрасывают его «под самые облака» – один бросит, а другой прыгает и на лету ловит, и так – по очереди. «Вроде бы ничего хитрого, а всем весело», – перед нами «живая жанровая сценка», которую в применении к «сказочному народу» можно было бы счесть, пожалуй, даже и слишком живой. Довольно трудно избавиться от ощущения, что для автора поэмы феаки реальны не только в символическом, но и в историческом плане; постановка проблемы «исторической идентификации» представляется нам, таким образом, вполне уместной, И, разумеется, для решения ее следует прежде всего обратиться к той характеристике, которую феаки дают себе сами: