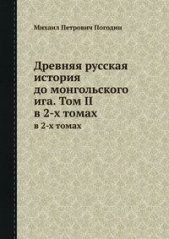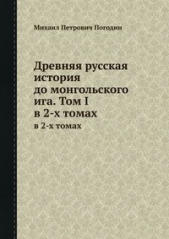Паралогии

Паралогии читать книгу онлайн
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Запечатленный в этом эпизоде кризис вполне соответствует характеристике коллективной травмы. Кэй Эриксон характеризует ее так:
Под коллективной травмой… я понимаю удар, нанесенный по основным тканям социальной жизни, который нарушает связи, соединяющие людей, и поражает доминирующее чувство социальной общности. Коллективная травма прокладывает себе дорогу медленно и даже коварно через сознание тех, кто перенес ее, и потому она лишена внезапности, обыкновенно ассоциируемой с «травмой». Но тем не менее она остается формой шока — ее порождает постепенное осознание того, что социальная общность (community) прекратила свое существование в качестве места личностной поддержки, а также понимание того, что важная часть «я» исчезла вместе с социальной общностью… «Я» продолжает существовать, хоть и надломленным и, может быть, даже навсегда изменившимся. «Вы» также продолжает существовать, хотя и на отдалении и вне соотносимости (hard to relate to) со мной. Но «мы» [в этом случае] более не существует ни как пара звеньев, ни как цепь элементов, включенных в большее коммунальное тело [254].
С этой точки зрения становится понятно, что мифологический сюжет повести разыгрывает коллизию именно коллективной травмы. «Социальное Я», умирающее вместе с распадом «мы», вместе с крушением социальных общностей, представлено историей Парнока и его символической смертью. Вместе с тем история «Я», которое «продолжает существовать, хоть и надломленным и, может быть, даже навсегда изменившимся», воплощается в рождении Автора как посмертного двойника Парнока, как его «Ка», жизненной силы, обретшей свободу, хотя и лишившейся «социального тела». Хотя само событие исторической травмы — разлома между «позвонками» времени, того, что время срезает человека, «как монету», или приносит себе в жертву «темя жизни», — зафиксировано уже в стихотворениях начала 1920-х («Концёрт на вокзале», 1921; «Век», 1922; «Нашедший подкову», 1923; «1 января 1924 года», 1924). Однако долговременный эффект этой травмы становится виден Мандельштаму только через десять лет после революции, так как коллективная травма «лишена эффекта внезапности», временная дистанция становится принципиальным условием ее реализации.
Важно при этом подчеркнуть, что и «воображаемое сообщество», и «мы» для Мандельштама (как и практически для всех акмеистов) соотносятся не столько с социальными телами, сколько с культурным мифом, с представлениями о культурной традиции, с кругом хранителей и «обновителей» культурных ценностей. В повести «Египетская марка» тема гибели «мы» (и вызванная ею символическая смерть Парнока) интерпретируется как результат разрушения культурных общностей, воплощаемых прежде всего двумя мотивными ареалами: один представлен темами детства и еврейства, другой — Петербургом и «петербургским текстом» русской культуры.
Детские впечатления в «Египетской марке», на первый взгляд, служат и для Парнока, и для Автора доказательством его/их кровного родства с миром. Именно с детством связан образ идеальной полноты жизни, адекватной эстетическому переживанию. Не допущенный до эрмитажного «барбизонского завтрака» в пространстве Петербурга, повествователь восстанавливает «барбизонское воскресенье» в описании реального завтрака в детстве (глава четвертая). Не случайно, возвращаясь сразу после этого описания в пугающую современность, герой не испытывает отчаяния: «И страшно жить и хорошо! Он — лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофием налетающая ночь» (с. 479).
Домашний мир детства вбирает в себя важнейшие черты мировой культуры: в детской памяти Парнока пересекаются всемирная география («карта полушарий Ильина», в которой Парнок «черпал утешение») и домашняя, не менее глобальная история: «в любой квартире на Каменноостровском время раскалывается на династии и столетия» (с. 466). Уже в открывающем повесть описании «домашнего бессмертия» встречаются прислуга-полячка, «китаец, обвешанный дамскими сумочками», «американская дуэль-кукушка», «венские стулья и голландские тарелки». По мнению Клэр Кавана, мир еврейского детства в «Египетской марке» выражает тот синтетический идеал культуры, сплетающей воедино иностранное и родное, современное и древнее, который всегда был связан для Мандельштама с Петербургом. Именно этот синтез и распадается, рассыпается в пореволюционном Петрограде:
[В повести] рисуется мир, в котором вещи и люди разъединены и в котором евреи и художники в первую очередь становятся жертвой центробежных сил анархического века, недосягаемого для целительной силы культуры. Центр перестал существовать, и призрачный Петербург Мандельштама потерял опору. Русская столица превращается в пустую оболочку, «торцовую книгу в каменном переплете с вырванной серединой». <…> В статье «О природе слова» Мандельштам прославлял синтетические качества русской культуры, позволяющие ей усваивать любые иностранные влияния, сохраняя при этом отчетливую русскость. [Этот] волшебный клей явно исчезает из мира «Египетской марки», оставляя [после своего исчезновения] город, состоящий из неслиянных иностранных фрагментов, город без свойств [255].
Если мир детских воспоминаний обладает для автора и героя притягательностью теплого «неудавшегося домашнего бессмертия», то мир Петербурга строится на сочетании бессмертного искусства и изначальной трагической обреченности. Это сочетание вообще характерно для «петербургского текста» русской литературы, о чем писал В. Н. Топоров: «Петербург, он — вне центра, эксцентричен, на краю у предела, над бездной, и эта ситуация, принятая как необходимость, дает силы творить, и творчество это интенсивно-напряженно и обращено к бытийственному» [256]. Мандельштам не только не скрывает того, что пытается продолжить «петербургский текст» после «конца Петербурга», но, кажется, первым превращает Петербург — в текст: недаром постоянными эквивалентами Петербурга у Мандельштама выступают Книга (включая атрибуты литературности и письма) и Театр. Литературность Петербурга, конечно, передана через густую сеть интертекстов, отсылающих в первую очередь к Гоголю и Достоевскому (этот аспект подробно изучен в работах о повести [257]). Именно в свете этих ассоциаций Петербург видится Мандельштаму «мерзлой книгой, переплетенной в топоры» (с. 489), «торцовой книгой в каменном переплете с вырванной серединой» (с. 491). В этих образах петербургский текст либо замешан на насилии, либо стал объектом насилия. Не менее родной и значительный, чем «детский мир», Петербург постоянно отталкивает, унижает и ранит: он с самого начала пронизан опытом и обещанием травмы.
Театр, и в особенности балет, и Парнок и Автор воспринимают как сердцевину петербургской цивилизации. Характерно, что мотивы театра перекликаются с темами детства: «Смородинные улыбки балерин <…> музыканты перепутались, как дриады, ветвями, корнями и смычками <…> — Моложавая бабушка Жизели разливает молоко — должно быть, миндальное» (с. 485). Но несмотря на это, театр в «Египетской марке» непременно соотнесен со смертью [258]. Показательна здесь пунктиром проходящая через всю повесть история смерти певицы Бозио (с. 467–468 и 490), где приезд певицы в Россию предстает как переезд из жизни в смерть. В пятой главе уже Автор восклицает: «Ведь и театр мне страшен, как курная изба, где совершается зверское убийство ради полушубка и валяных сапог» (с. 481). Страх в этом описании сопряжен со смертью и насилием и потому создает неожиданный контакт между петербургским балетом и «страшным порядком», «страхом-бондарем» в сцене самосуда. Крайне интересны в этом плане и как будто бессвязные театральные реплики, завершающие пятую главу. В них, по сути дела, варьируется несколько постоянных мотивов. Один из них — мотив смерти: «Обратите внимание: у античности был амфитеатр, а у нас — у новой Европы — ярусы. И на фресках страшного суда и в опере — единое мироощущение. <…> Как вы думаете, где сидела Анна Каренина?» (с. 485) (тема самоубийства, связанная с Анной Карениной, возникнет и в финале повести). Другой — мотив несвободы и насилия: «Всякий балет до известной степени — крепостной. Нет, нет — тут уж вы со мной не спорьте! <…>…растительное послушание кордебалета <…> — Нет, что ни говорите, а в основе классического танца лежит острастка — кусочек „государственного льда“. <…> Кому билет в ложу. А кому в рожу» (с. 484–485).