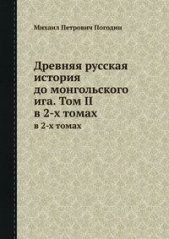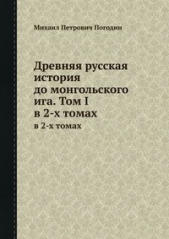Паралогии

Паралогии читать книгу онлайн
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письменные знаки, поэтизируемые в процитированной и других сценах письма, рождены этим неповинующимся пером. Если революция обнажает отсутствующий, провалившийся, центр культурной вселенной, то «арабески на полях черновиков» манифестируют децентрированное, маргинальное, полусознательное или вовсе бессознательное, «мимовольное», творчество — в свою очередь генерируемое пустотой и невыразимостью травмы. Мандельштамовские «арабески» не противопоставлены пространству смерти, а рождены им (недаром же единственное прямое упоминание Пушкина в повести — это описание умирающего Пушкина на картинке у портного). Только они способны адекватно репрезентировать отсутствие, в то же время оставаясь свободными от его власти. Отсюда понятно, почему мотивы «арабесок» и «маргиналий» так часто возникают и в других «сценах письма».
«Скрипичные человечки» превращаются в «миражные города нотных знаков» в пятой главе. Чистая графика — немая музыка — насыщается в этом описании ассоциациями с детством: «Там неподалеку я учился музыке. Мне ставили руку по системе Лешетицкого» (с. 481). Музыкальные графемы в то же время создают образ живого города — своеобразную альтернативу гибельному миражу Петербурга. Впрочем, «миражные города нотных знаков» не изолированы от исторических катастроф — они вместили их в себя: «нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей» (с. 480); «Нотная страница — это революция в старинном немецком городе» (с. 481); «труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу» (с. 481). И опять же недаром образ графической, то есть немой музыки возникает сразу после описания разговора глухонемых, пересекающих онемевшую — лишенную логоса — Дворцовую площадь.
«Арабески на полях черновиков» вырастают в мощную манифестацию децентрированного письма во фрагменте из пятой главы [267]:
Здесь особенно демонстративны отсутствие организованности, зияние на месте структуры, «желтые от клея швы» — вместо целостности. Все это парадоксальным образом осмысляется автором как преимущество: «Марать — лучше, чем писать». В этой металитературной декларации слышится отзвук другого фрагмента повести: «Он подходил к разведенным мостам, напоминавшим, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный товар…» (с. 490). В этом фрагменте прямо повторяется мотив из предыдущей сцены письма, однако «нотный виноградник Шуберта», всегда расклеванный до косточек и исхлестанный бурей, претерпевает знаменательное превращение: «Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная». Иначе говоря, сам текст в его децентрированности, маргинальности и принципиальной бессвязности — а это узнаваемое метаописание поэтики «Египетской марки» — моделирует бурю: только такой текст может стать означающим исторической травмы. А «Марат в чулке», возникающий в финале этого фрагмента, непосредственно связывает «бурю» с топикой революции.
Та же тема арабесок на полях рукописей вновь соединяется с мотивом музыки в последней сцене письма (восьмая глава), вырастая здесь до обобщающего императивного манифеста «голубушки прозы»:
Уничтожайте рукописи, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неуменья и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность к своему творцу тут же заварят увертюру к «Леноре» или к «Эгмонту» Бетховена (с. 494).
Последующий текст вновь, на этот раз эксплицитно, формулирует то новое значение, которое приобретает в сценах письма соединение смерти и творчества. Мотивы творчества трансформируются в свободу, даруемую децентрированным, фрагментарным и хаотичным дискурсом: «Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому! Это все равно что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды» (с. 494). Разумеется, эта формула свободы вызывает в памяти эмблему «неудавшегося семейного бессмертия» из начала повести: «Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой» (с. 465). И не случайно: если на протяжении всего повествования смерть и разрушение, хоть и были связаны с творчеством, всегда представали силой внешней по отношению к творчеству, то в сценах письма творчество вбирает в себя травму, признавая ее своей опорой и своим источником — сопоставимым в этом качестве с детством: «Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности» (с. 495, курсив везде мой. — М.Л.).
Видимая неорганизованность текста «Египетской марки», как и видимая расплывчатость повествовательной точки зрения, представляет новую степень сложности. Сцены письма дают ключ к этой сложной — то есть далеко не классической — организации. По сути дела, они, эти сцены, парадоксально моделируют целое «Египетской марки» и авторскую личность как взрывную апорию — как неразрешимое конфликтное единство между Автором и Парноком, между смертью и проживанием-сквозь-смерть, между утратой и отсутствием, между исторической и структурной травмой. Именно с помощью фигур зияния, разрыва связи или отсутствия осуществляется двусторонняя связь между еврейским детством и Петербургом, искусством и кошмарами исторической катастрофы, автором и героем, письмом и гибельной реальностью — те связи, выявлению которых, собственно, и был посвящен наш разбор. Превращение разрыва в связь, а связи в разрыв — этот конструктивный принцип, лежащий в основе апорий повести, дополнительно тематизируется Мандельштамом как манифестарно провозглашаемый принцип новой прозы [268]. Именно этот принцип позволяет «разыграть» в поэтике повести ритуальную смерть и возрождение субъекта травмы, отразившиеся в «мифологическом» сюжете «Египетской марки». Именно так манифестируется рождение новой художественности. Именно этим, не рационально, а пластически воплощенным принципом, Мандельштам преодолевает «коллективную травму» культурного коллапса.
Как замечает Д. М. Сегал, «оказывается, что правила построения новой прозы — суть парадигма личности художника, личности новой, поставленной в небывало сложные обстоятельства, но способной из столкновения между этими обстоятельствами и глубинными законами своего творчества создать ценности культуро-строительного плана» [269]. Изоморфность метапрозаической составляющей «Египетской марки» и личности художника объясняет, почему вскоре после этого текста Мандельштаму удается преодолеть длившийся с 1925 года кризис и вернуться к стихам.
Е. Павлов убежден в том, что «Египетская марка» — это «бескомпромиссное свидетельство невозможности воскресить прошлый опыт и воссоздать субъекта этого опыта как реальное единство» (с. 149). Проанализировав поэтику «мнемонического возвышенного» в повести, Павлов доказывает:
«Египетская марка» в противовес «Шуму времени» окажется постмодернистским произведением par excellence… Я бы только добавил, что «Египетская марка» находится все же по левую сторону разграничения модерн/постмодерн. Да и сама эта граница, конечно же, вряд ли из камня. Повесть Мандельштама явно предвосхищает те формальные черты, которыми отмечен постмодерн: особенно это касается фрагментации и стирания конвенциональных повествовательных структур. Однако в своей одержимости истоком времени и раскрытием исторического момента «Египетская марка» является, по существу, модернистским творением, пусть и сколь угодно крайним. Можно также сказать, что фактически уже само испытание пределов репрезентации делает повесть образцово модернистским произведением (с. 150–151).