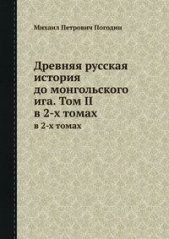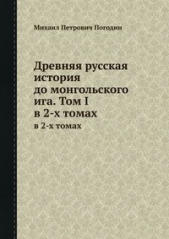Паралогии

Паралогии читать книгу онлайн
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Создав обреченного на гибель, на наших глазах проваливающегося в смертельную бездну Парнока, Мандельштам тем самым позволяет другой ипостаси лирического субъекта — Автору — жить в Реальном, вернее, жить в «хаосе реального».
Интенсивное переживание символически насыщенной смерти Парнока, вызванное испытанной героем травмой, интерпретируется в «Египетской марке» как основа новой свободы и новой внутренней силы Автора. При этом авторский дискурс оказывается целиком и полностью укорененным в смерти и смертности своего «земного» двойника. Важно подчеркнуть, что голос Автора только в ограниченной степени противоположен Парноку («жидочку», травматическому субъекту); куда в большей степени обретаемая Автором потусторонняя, по-смертная свобода обеспечена травмами Парнока и, главное, тем, как этот персонаж проходит через историческую катастрофу — теряя все, но не поддаваясь искушению убивать; становясь жертвой, но не примыкая к палачам — и тем самым сохраняя легкость сердца и благодаря этому обретая «Ка». Больше того, именно Парнок становится знаком — «египетской маркой» — состоявшейся, посмертной метаморфозы.
Но если такова общая символическая логика повести, то как она материализуется в ее сложной мотивной структуре? Как эта структура, в свою очередь, приводит к новой, металитературно оформленной концепции творчества? И как эта концепция фрагментарного, рваного, маргинального письма (творчества) соотнесена с переживанием — проживанием! — травмы?
Утрата и отсутствие
Хотя травма не поддается связной артикуляции, всегда возможно выделить образы, сцены, мотивы, наиболее прочно с ней ассоциируемые. В «Египетской марке» кульминационная сцена расправы над «человечком» в четвертой главе наиболее приближена к неартикулируемому «означаемому» травмы. Травма, запечатленная этим эпизодом, глубже, чем может показаться на первый взгляд. Как пишет Рене Жирар в книге «Козел отпущения», сцены коллективного наказания — акты насилия, осуществляемого толпой, «вне зависимости от того, какие события послужили толчком, всегда оставляют в тех, кто пережил эти ситуации, один и тот же след. Бесспорно сильнейшим оказывается ощущение абсолютной потери социального порядка, выражающееся в исчезновении тех правил и „различий“, что определяют культурные границы… „все сокращается до крайности“… Культура затмевается в тот момент, когда она становится менее дифференцированной» [248].
«Страшный порядок, сковавший толпу», противоположен культуре именно потому, что исключает дифференциацию, в первую очередь — несогласие: «Тут была законом круговая порука… Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь обладателю злополучного воротника… как его самого взяли бы в переделку, объявили бы вне закона и втянули в пустое карэ. Тут работал бондарь-страх». Именно этот новый недифференцированный порядок уравнивает находящихся в толпе убийц и жертву:
Сказать, что на нем [человечке] не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши.
Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши <…>
Затылочные граждане, сохраняя церемониальный порядок… неумолимо продвигались к Фонтанке (с. 475, 476).
Точно так же исчезает и категория свидетеля, не-участника этой сцены: Парнок — единственный, кто пытается остановить самосуд, — чувствует себя потенциальной жертвой; а все остальные — в первую очередь, вооруженный шашкой Кржижановский — оказываются соучастниками убийства [249].
Выход за пределы культурных различий передается постоянными зоологическими метафорами. На первый взгляд, они придают сцене мифологический масштаб. Если образы людей с «собачьими ушами» ассоциируются с египетскими изображениями Анубиса, бога смерти и судьи в загробном мире [250], то «человечья саранча», что «вычернила берега Фонтанки, облепила рыбный садок» (с. 478), наводит на мысль об Апокалипсисе или о восьмой казни египетской — нашествии саранчи, после которого в Египте, по мановению руки Моисея, наступила «осязаемая тьма» (Исх., 10: 1–23 [251]). Мифологический аспект этой сцены подкрепляется и упоминаниями о «молитвенном шорохе» (с. 475) толпы и ее «церемониальности», сравнением с «шиитами в день Шахсе-Вахсе» (религиозный праздник, сопровождавшийся ритуалом коллективного самоистязания, который Мандельштам наблюдал в Тифлисе [252]). Но если перед нами религиозная процессия, то сакральным для нее стало насилие и его ожидание — «бондарь-страх».
Именно это открытие свидетельствует о культурном коллапсе. Не случайно зоологических образов в сцене самосуда явно больше, чем нужно: толпа сравнивается с пчелиным роем, а потом называется тараканьей («кусочки улицы, кишевшие тараканьей толпой, казались в них еще страшнее и мохнатее…» — с. 477), а жертва уподобляется матке улья и одновременно жемчужине, окруженной моллюском. Еще одна свидетельница сцены — «молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика», названа «обсыпанной мукой капустницей» (с. 476); часовой механизм, в который смотрит еврей-часовщик на Гороховой, уподоблен козявкам (с. 476). Даже бормашина (Парнок вначале наблюдает эту сцену из кабинета дантиста) сравнивается с хоботом (с. 475) и усыпленной коброй (с. 476). В этом ряду новое значение приобретают и «овечьи копытца лакированных туфель» Парнока (с. 477). Человеческий мир культуры, вписанный в петербургскую топографию (Фонтанка, Гороховая, Египетский мост, угол Вознесенской) и, казалось бы, продолжающий выполнять свои цивилизационные функции (врач, часовщик, базар, театр, «рыбный садок, баржи с дровами, пристаньки, гранитные сходни и даже лодки ладожских гончаров…» [с. 478], — все это внезапно превращается в мир насекомых, пресмыкающихся и иных животных. Все, что отделяет культуру от природы, исчезает на глазах.
Вот почему в этой главе возникает другой образный ряд, выводящий за пределы культуры через физиологически-болезненное отвращение: «Они воняют кишечными пузырями, — подумал Парнок, и почему-то вспомнилось страшное слово „требуха“. И его слегка затошнило как бы от воспоминания о том, что на днях старушка в лавке спрашивала при нем „легкие“, — на самом же деле от страшного порядка, сковавшего толпу» (с. 477); «Пуговицы делаются из крови животных!» (с. 478). Мотив болезни усилен и образом аптечного телефона, пропитанного болезнью и убивающего голос: «Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового дерева. Скарлатиновое дерево растет в клистирной роще и пахнет чернилами. Не говорите по телефону из петербургских аптек: трубка шелушится и голос обесцвечивается. Помните, что к Прозерпине и Персефоне телефон еще не проведен» (с. 478). В этом же ряду и уподобление государства как столпа исчезающего на глазах порядка — снулой рыбе: «он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству — исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству» (с. 478). Физиологическое отвращение и мотив болезни явственно связывают эту сцену с бессознательной блокировкой, препятствующей возвращению в точку травмы. А фраза «Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух…» (с. 478) сводит оба ряда — мифологический и натуралистический — в формуле террора как принципиального разрушения культурных различий: в этой фразе неразличимыми оказываются пища и не-пища (похлебка/мухи), современность и древность (Петербург/Рим) и в конечном счете великая культура и повседневное одичание [253].
Как видим, происхождение травмы у Мандельштама далеко выходит за пределы собственно революционного потрясения насилием. Речь идет о затмении культуры, об исчезновении защитных механизмов, отделяющих «человечка» от океана насилия и хаоса. Более того, речь идет о глубинном поражении культуры, служению которой Мандельштам посвятил всю предшествующую сознательную жизнь: великая традиция на глазах оборачивается миражом, бессильной иллюзией, безразлично сметаемой толпой будничных убийц.