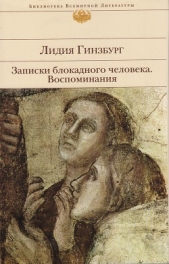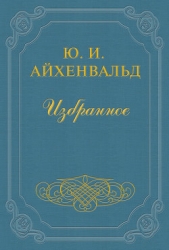Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель
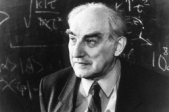
Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель читать книгу онлайн
С конца 1980?х годов, с концом советской власти, в российской печати появился целый поток мемуарной и автобиографической литературы о советском времени, написанной в разные годы (большей частью, после смерти Сталина). Авторы этих мемуаров заняты осмыслением советского — сталинского — опыта в пределах отдельной жизни [1]. От рамки, заданной журнальной рубрикой или издательской серией («Частные воспоминания о ХХ веке», «Мой ХХ век», «ХХ век от первого лица»), до сигналов, разбросанных в самих текстах, такие публикации заявляют о себе как об историзации частной жизни и приватизации истории. Это проявление того, что принято называть «историческим сознанием», понимая под этим самоосознание или самоутверждение за счет соотнесения своего «я» с понятием истории. Исследователи не раз связывали историческое сознание и мемуарно–автобиографическое письмо [2]. Моя задача — выявить следы, источники и ходы такого самосознания в русской мемуаристике, опубликованной на рубеже XXI века. Тот ход, который описан в настоящей статье, начинается именем Герцена и ведет к Гегелю; он опосредован современными исследователями Герцена — Гегеля, прежде всего Лидией Гинзбург.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каким же образом достигается эффект совмещения автобиографии и историографии? Об этом подробно пишет Лидия Гинзбург в книге «О психологической прозе». Позволю себе и напомнить, и дополнить ее интерпретацию. Гинзбург описала первые пять частей «Былого и дум» не как бесформенные «записки», а как построение «связное и законченное», своего рода «единство действия» — это «история становления идеолога русской революции в свете излюбленной герценовской идеи столкновения двух миров, старого с новым». Как пишет Гинзбург: «Первая часть — «Детская и университет (1812–1834)» — это «годы учения». Из старого мира помещичьего бытия герой с усилием прокладывает дорогу в мир новых человеческих отношений. Вторая часть — «Тюрьма и ссылка (1834–1838)» — столкновение героя с жестокой действительностью (старый мир крепостничества и николаевской бюрократии)». В третьей части — «Владимир–на–Клязьме (1838–1839)» — речь идет о параллельном становлении личности героини (будущей жены Герцена). В четвертой части — «Москва, Петербург и Новгород (1840–1847)» — находим героя на сцене истории русской мысли 1840‑х годов, в столкновении западников и славянофилов. В последней, пятой части — «Париж — Италия — Париж (1847–1852)» — герой, русский революционер, сталкивается в ходе революции 1848–1851 годов с западным миром. Во второй половине пятой части тема исторической драмы неудачной революции «срастается» с рассказом о семейной драме [23]. (Напомню, что Герцен начал работу над мемуарами в 1852 году, и с целью объяснить свою личную драму [24].) В книге «О психологической прозе» Гинзбург называет такое движение сюжета «диалектическим», но не упоминает при этом имени Гегеля [25].
Полагаю, что, представленная в таком виде, структура «Былого и дум» воспроизводит гегельянскую диалектическую схему — в герценовском варианте. Более того, путь героя–идеолога повторяет ход русской истории, или истории русской мысли, как Герцен представил его в своем труде «О развитии революционных идей в России» (1851). Позволю себе напомнить (используя термины Герцена) ставшие эмблематическими эпизоды: герой–младенец захвачен пожаром на улицах Москвы при вступлении в город французских войск, в то время как его отец, скитаясь по улицам в поисках крова, случайно оказывается лицом к лицу с Наполеоном, который посылает его с письмом к русскому императору. (По выражению Гинзбург, это «духовная генеалогия» героя «Былого и дум» [26].) Затем герой–отрок, уже начинающий смутно осознавать себя, потерянный в толпе, во время молебна после казни декабристов, плача о них, приобщается к неудачной революции 1825 года. В четвертой части герой, захваченный столкновениями западников и славянофилов, пытается примирить их идеи в синтезе; так рождается его мировоззрение. Наконец, в пятой части (известной под условным названием «Рассказ о семейной драме») он проходит через опыт европейской революции 1848–1851 годов. Именно в этот момент его семейная драма совмещается с драмой мировой истории [27].
Итак, первые пять частей «Былого и дум» воспроизводят как структуру Bildungstoman’а (что очевидно), так и схему «Феноменологии духа» Гегеля [28]. В самом деле, герой–идеолог как бы следует по маршруту гегелевского «сознания» («духа»), который повторяет в своем диалектическом развитии историю мирового духа, или мировую историю, стремясь к полному их слиянию. Это не удивительно: по мнению некоторых комментаторов Гегеля, «Феноменология…» осознанно и ощутимо использует литературную форму Bildungstoman’а.
Впервые эта идея была высказана американским философом Д. Ройсом, в лекциях, прочитанных в Йельском университете в 1919 году. “«Феноменология…», — сказал Ройс своим слушателям, — это своего рода «биография духа», в которой, вместо конкретных событий, мы находим «события, которые приключаются <…> с категориями»”. Ройс проводит прямую параллель между «Феноменологией…» и возникшим в этот период жанром Bildungsroman’а, в частности «Вильгельмом Мейстером» Гёте, который упомянут в книге Гегеля. Дух — это “«я», представленное метафорически, в виде странника на пути истории» [29]. Если герой «Феноменологии…» — Дух, то сюжет — диалектика: Дух проходит в ходе своего развития через ряд форм, или стадий. Вдохновленный метафорическим языком Гегеля и его любовью к литературным аллюзиям, Ройс полагает, что такая интерпретация вполне соответствует интенциям автора «Феноменологии…». О том же пишет Жан Ипполит в комментариях к «Феноменологии духа», опубликованных в 1946 году во Франции. Ипполит замечает, что во Введении к «Феноменологии…» Гегель описывает свою задачу как изображение «маршрута сознания», или «путешествия души», проходящей через серию форм, или промежуточных «станций». «Феноменология…», пишет Ипполит, — «это роман философского становления», подобный «Вильгельму Мейстеру» и другим произведениям подобного рода (в частности, «Эмилю» Руссо) [30]. Замечу, что эта идея, которая с полной откровенностью сформулирована в толкованиях Гегеля, выдвинутых после Первой и Второй мировых войн, была не чужда и гегельянцам 1840‑х годов. Так, Карл Розенкранц планировал воплотить систему Гегеля в романе, в котором саморазвитие Духа изображалось бы как личная диалектическая эволюция человека на пути к «абсолютному примирению» [31]. (Человек, обратившийся в гегельянство как в религию, Розенкранц стал первым биографом Гегеля.)
Герцен в одном из писем 1842 года описал чтение «Феноменологии…» как глубокое эмоциональное и литературное переживание: «К концу книги точно въезжаешь в море, глубина, прозрачность, веяние духа, несет‑lasciati ogni speranza — берега исчезают <…> Я дочитал с биением сердца, с какой–то торжественностью. Г<егель> — Шекспир и Гомер вместе…» [32] В годы, когда писались «Былое и думы», Герцен уже не считал себя гегельянцем. В своей книге Герцен–мемуарист смеется над «отчаянным гегелизмом» то «немецкой науки», то «молодых философов наших», то собственной молодости («все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории…») [33]. (Исследователи Герцена любят цитировать именно эти слова.) Пишет он и о том, как «русский дух переработал Гегелево учение», бунтуя «против отвлечений — за жизнь» (18). Отрекаясь от старого Гегеля, политического консерватора, он рассуждает о «настоящем Гегеле»: это «скромный профессор в Йене <…> который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город» (21). Герцен пишет о «Феноменологии…» как о факте жизненного опыта человека своего поколения: «…человек, не переживший «Феноменологии» Гегеля», — «не полон, не современен» (23). Смею предположить, что Герцен не только «пережил» «Феноменологию…» Гегеля, но в «Былом и думах» описал свою жизнь (от ее начала в 1812 году до катастроф 1848–1852 годов) по схеме «Феноменологии…», совместив опыт сознания, понятый как конкретный биографический опыт, с опытом историческим.
Я отнюдь не хочу сказать, что этой особенностью исчерпывается структура «Былого и дум», в которой читатель наших дней не без основания склонен видеть «палимпсест» — разнородный текст, лишенный единства и полный плодотворных противоречий [34]. Это тем более вероятно, что «Былое и думы» писались, переписывались и дополнялись на протяжении многих лет (вплоть до смерти Герцена в 1870 году), но из этого палимпсеста трудно было бы исключить маршрут гегелевского духа.
Полагаю, что в «Былом и думах» присутствует и сюжетная схема Bildungsroman’а и философская парадигма «Феноменологии…», и что это способствует читательскому восприятию мемуаров Герцена как текста, воплощающего историческое мышление. Однако «Былое и думы» — это «Феноменология духа» без счастливого конца, да и вовсе без конца. В самом деле, Герцен переложил Гегелево учение «на русские нравы», учитывая при этом исторический опыт тех лет, которые последовали за окончанием (в 1806 году) «Феноменологии…». Биография героя воплощает не оптимистический сценарий, ведущий к «абсолютному примирению» человека и истории, а историческое чувство человека, случайно оказавшегося, покалеченного и оставленного на дороге истории. К концу пятой части «Былого и дум» (это «Рассказ о семейной драме», при жизни Герцена не публиковавшийся) история жизни героя, пережившего катастрофу, не заканчивается, а (по слову Герцена) «прерывается», за чем следует несколько отрывочных дополнений. (Части же шестая, седьмая и восьмая «Былого и дум» состоят из отрывков, вовсе лишенных связного сюжета.) Более того, литературная форма автобиографии не позволяет герою, повествователю и автору (что в данном случае одно и то же) знать, каков будет конец его жизненного пути. После 1848 года Герцен не раз писал и о том, что нельзя знать конца истории (хотя он так и не оставил надежды на установление социализма в России).