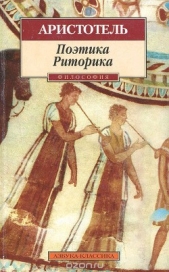Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во-первых, это библейская, ветхозаветная оппозиция: не до конца осуществившая себя «слава Божия» в истории — ее окончательное осуществление в эсхатологическом «дне Яхве» 79.
Во-вторых, это платоновская, философски-спиритуалистическая оппозиция или, точнее, пара онтологически приравненных оппозиций: чувственный мир тел — умопостигаемый мир идей; время — вечность.
К этому надо добавить, в-третьих, в-четвертых и в-пятых, извечную культовую оппозицию житейски-профанно-го и сакрально-табуированного, столь же извечную мифологическую оппозицию настоящего времени и времени мифа, наконец, народно-сказочное противоположение области кривды и области правды. Такой ряд можно было бы продолжить. Особенно противоречивыми были отношения взаимопритяжения и взаимоотталкивания между библейским и платоническим подходами к членению всего сущего. Христианство— ни в коем случае не религия «духа»; это религия «Святого Духа», что отнюдь не одно и то же. Ее идеал — не самоодухотворение, а «покаяние», «очищение» и «святость», что опять-таки не одно и то же. С христианской точки зрения и плоть может быть «честными мощами», а дух может быть «нечистым духом» — причем, что особенно важно, нечистым вовсе не в силу контакта с материей, как представляли себе платоники, гностики и мани-хеи, но по собственной вине непослушания. Христианство учило о святом веществе евхаристических «Даров», о воскресении плоти и ее будущей славе. «Не всякая плоть — одна и та же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава у небесных, иная слава у земных, иная слава у Солнца, иная слава у Луны, иная слава у звезд;
Как предполагалось,
и звезда от звезды разнится в славе»
вся совокупность материальных вещей создана творчеством Бога и «хороша весьма» 8 |, между тем как дьявол вызвал к жизни только одну злую и притом, кстати говоря, всецело невещественную, всецело духовную вещь — грех. Грань между добром и злом идет для христианства наперерез грани между материей и духом.
Строго говоря, абсолютизированная в спиритуалистическом смысле дихотомия телесного и бестелесного, вещественного и невещественного— не христианская дихотомия. Абсолютным мыслилось только различие между Богом и «тварью». «Бестелесным и невещественным, — поясняет Иоанн Дамаскин, — называется ангел по сравнению с нами. Ибо в сравнении с Богом, который один несравним, все оказывается грубым и вещественным. Одно только божество в строгом смысле слова невещественно и бестелесно» 82. Однако и навыки мышления в формах греческого идеализма, очень устойчивые у многих представителей патристики, и практические нужды морального назидания в аскезе заставляли ранневизантийских авторов вновь и вновь говорить платоническим языком. Если нужно уговаривать мирянина или тем более монаха обуздывать свое тело и подчинять его уму, было слишком удобно сказать, что ум как бы субстанциально выше материального, «грубого», «тучного» тела.
Двухъярусное членение мира могло иметь временной, т. е. исторический, модус (когда противопоставлялись друг другу «сей век» и «будущий век» как настоящее и грядущее). Оно могло иметь пространственный, т. е. космологический, модус (когда противопоставлялись друг другу «земное» и «небесное» в буквальном, отнюдь не метафорическом смысле слова). Оно могло иметь, наконец, философский, онтологический модус (когда противопоставлялись друг другу материя и дух, время и вечность, что можно также обозначить как «земное» и «небесное», но в порядке метафоры).
Все три модуса были сопряжены в единой символической системе как взаимозаменимые смысловые эквиваленты. Перед нами как бы уравнение: духовное так относится к
телесному, как небеса относятся к земле и «будущий век» относится к «сему веку» (ряд можно продолжить — таково же отношение восточной стороны к западной стороне, правой стороны к левой стороне, и т. д.). Но этого мало. Достаточно часто приравниваются друг к другу не только отношения, но и сами члены этих отношений; взаимозаменимость как бы переносится на них.
Уже в Новом Завете речь идет о человеке, который был «восхищен до третьего неба». Автор добавляет: «в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает» 83. Если этот путь на небеса был совершен «вне тела», его надо мыслить как духовный экстаз, как переступание онтологической грани, для которого пространственные образы «небес» и «земли», «горнего» и «дольнего» могут служить только метафорой. Если же он был совершен «в теле», его надо мыслить как пространственное движение. Что же выбрать? Автор не дает нам ответа. Он говорит «не знаю».
Еще более характерный пример— ранневизантийская легенда о поваре Евфросине84. В ней повествуется о некоем священнике: «когда он спал на постеле своей, ум его был восхищен, и пресвитер очутился в саду, какого он никогда не зрел». Разумеется, этот сад — райский сад. Казалось бы, отчетливо сказано, что персонаж легенды проник на верхний ярус мирового бытия «вне тела»; ведь тело оставалось «на постеле», и «восхищен» был только «ум». Но в раю священник получает в дар три яблока; и вот оказывается, что эти яблоки он самым вещественным образом приносит с собой на землю, к своему же собственному телу. «В это время ударили в било, и, пробудившись, пресвитер подумал, что видит сон, но, когда выпростал левую руку свою из плаща и в ней въяве лежали яблоки, восхитился ум его». По логике этой легенды различие между странствием на небеса «в теле» и «вне тела», между космологической и онтологической оппозициями вообще снимается. Одно до конца приравнено к другому.
Знак, знамя, знамение
Историческим итогом античности, ее концом, ее пределом оказалась Римская империя. Она подытожила и округлила пространственное распространение греко-римской цивилизации, собрав в единую «ойкумену» земли Средиземноморья. Она сделала больше: она подытожила и обобщила идейные основания греко-римской государственности за целое тысячелетие — от смутных реминисценций древнейшей сакрально-магической монархии ' до политико-философских доктрин стоического просветительства. В пространстве рубежи империи совпадали с границами обширного культурного региона, но по идее они совпадали с границами человечества, чуть ли не с границами мироздания — того самого «Зевсова полиса», о котором говорил Марк Аврелий, глава империи и философ империи в одном лице2.
Конечным вариантом имперской философии стал неоплатонизм 3. Это был не столько неоплатонизм Плотина, сколько неоплатонизм Прокла, выведший итог всех путей греческой идеалистической мысли от мифологической архаики до аристотелианской протосхоластики. Уступая Плотину в творческой гениальности, в легкости и свободе мышления, Прокл дал то, чего не дал Плотин и что все настоятельнее требовалось эпохой: дотошное исчерпание каждой темы в строгой последовательности дефиниций и силлогизмов, эллинское предварение схоластических «сумм» — философию итога как итог философии.
Во всех этих случаях итог превращал то, итогом чего он был, в противоположность себе. «Полис», который мыслится равновеликим миру (уже Рутилий Намациан в начале V в. играл с созвучием латинских слов «urbs» — «город» и «orbis» — «мир» 4), есть радикальное отрицание настоящего полиса, которому, по суждению Аристотеля, полагалось непременно быть «обозримым» с вершины его акрополя 5. Все основные компоненты античной цивилизации нашли
себе место внутри конечного синтеза, но каждый раз на правах метафоры, аллегории, символа, нетождественного собственному значению.
Последней формой конкретно-чувственной «обозримости» полиса становится абстрактная «обозримость» империи, ресурсы которой исчислены фиском: «Рим» как «мир».
Последним гарантом полисной цивилизации становится отрицание полисной свободы, воплощенное в особе римского императора: самодержец как «друг полисов» 6.