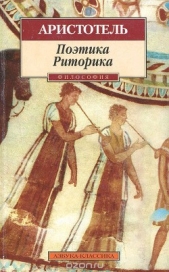Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тема апокалиптиков— взрыв истории и ее переход в метаисторию, последнее сражение добра и зла и «тот свет». Когда древние пророки говорили о народах и государствах, для них еще существовал пестрый человеческий мир с его красками; для апокалиптиков красок не осталось — только ослепительное сияние и кромешный мрак. Атмосфера их сочинений характеризуется единством двух крайностей — предельной экзальтации и предельной рассудочности. С одной стороны, перед нами экстатические визионеры; откровение о сокровеннейших тайнах «будущего века» предполагает напряженность интонации, непривычность и неимоверность образов. С другой стороны, апокалиптикам очень трудно и очень страшно представить получателями
откровения лично себя; для их совести легче взять на себяроль позднего хранителя тайных пророческих преданий, размышляющего над древним пророчеством, вычисляющего сроки его исполнения и выводящего из него всё новыеследствия. Отсюда книжный и головной характер апокалиптической литературы; отсюда же влечение апокалиптиков к анонимности и псевдонимности. Апокалиптик предпочитает скрывать себя за условными именами таинственной древности и выставлять себя в качестве безымянногоинструмента предания. Он излагает свое учение устами какого-нибудь персонажа незапамятных времен — например, устами Адама и Евы, или Еноха, или двенадцати сыновейИакова, — при этом «пророчествуя» о давно прошедшихсобытиях и пересказывая библейские саги и хроники вформах будущего времени. Перед нами не просто мистификация. По очень серьезным и содержательным причинамтакому автору нужна для осмысления истории воображаемая наблюдательная точка вне истории; эту позицию удобно локализовать либо в самом начале истории, либо в самом ее конце — но к концу прикован умственный взор апо-калиптика, а в начале он помещает своего двойника, давему имя хотя бы того же Еноха. Глазами этого своего двойника он eudumпрошедшее и настоящее как будущее, одновременно притязая на то, чтобы знать будущее с тойже непреложностью, с которой знают прошедшее инастоящее. Различие между прошедшим, настоящим и будущим, между «уже» и «еще не» в принципе снято, и черезэто снята сама история; она предстает в мистических числовых схемах и мистических аллегориях, как нечто предопределенное и постольку данное готовым. Мало определитьапокалиптику как мистику истории; в отличие от мистикиконкретного исторического процесса у библейских пророков, это мистика абсолютизированной, и потому абстрактной, и потому снятой истории. Апокалиптик очень острочувствует историю— как боль, которую нужно утолить, как недуг, который нужно вылечить, как вину, которуюнужно искупить. Здесь не место говорить об историческихпричинах, сформировавших такой психологический стерео-7»99
тип. Достаточно указать на то, что апокалиптик скорее ненавидит историю, чем любит ее, и что он больше всего хотел бы от нее избавиться; столь характерный для библейской традиции мистический историзм на пределе своей кульминации обращается против самого себя. Поэтому для апокалиптика так важна идея абсолютного конца, когда все движущееся остановится, все открытое замкнется, все нерешенное будет решено и все спорящие стороны услышат свой вечный приговор.
Во-вторых, по мере того, как христианство приобретало формы систематического философствования, оно перенимало греческие мыслительные навыки. Еще в 30—40-е годы IVстолетия за пределами Римской империи работал «персидский мудрец» Афраат, интерпретировавший содержание христианской веры вне эллинских философских схем, идя от традиции восточного историзма. «Двадцать три гомилии Афраата имеют больше библейской полно-кровности и колоритного материала по вопросам жизни Иисуса, чем все трактаты апологетов», — отмечает Э. Бар-николь 47. Все это так; но для своего времени Афраат был безнадежно отставшим провинциалом. Историческое развитие прошло мимо него, и оно не могло идти иначе. Каждый шаг навстречу более тонкой интеллектуальной культуре означал для христианства приближение к онтологии эллинского типа, к платоновскому или аристотелевскому идеализму. «Когда около 230 года Ориген создал первый опыт научно построенной теологии, это означало, что грек еще раз превратил историю в космологию. Он писал о началах, когда должен был писать о царстве Божием» 48. Значение этого факта трудно переоценить. Ориген — самый смелый, острый и универсальный мыслитель, какого имело христианство на протяжении нескольких столетий. Хотя его конкретные теологические тезисы и его личность были после долгой полемики осуждены церковью и государством в VI в., склад и уклон его мысли не переставал оказывать влияние. Вся христианская философия средневековья в значительной части покоится на фундаменте, заложенном трудами этого еретика. Продолжая традиции эллинистического толкования мифов и поэтических текстов49, основанная Оригеном александрийская школа христианского богословия разработала метод аллегорической интерпретации библейской «священной истории» 50. В практике такой интерпретации было немало курьезного; но суть ее нельзя сводить к курьезу. Это был принципиальный подход к событию, совершающемуся во времени, как к иносказанию о смысле, пребывающем вне времени. Если Библия о чем-то повествует, текст этого рассказа имеет три значения: буквальное— плотское, моральное— душевное и, наконец, мистическое — духовное. Идеальная структура снова противопоставлена конкретной истории. Если смысл события имеет вневременной характер, он может выявиться в целой цепи разновременных событий. Отсюда богословская «типология» в средневековом смысле слова, т. е. доктрина о «прообразовании» (идеально-смысловом предвосхищении) более поздних событий в более ранних. Едва ли не все эпизоды Ветхого Завета разбирались как аллегории о земной жизни Христа, но события последней в свою очередь могли иносказательно указывать на перипетии внутренних путей христианской души. Интерпретация александрийской школы как бы спешит пройти, проскочить сквозь конкретный образ события к его абстрактному значению, принимая вполне всерьез только последнее; что она почти не принимает всерьез, так это время. Прошлое симметрично отвечает настоящему, настоящее симметрично отвечает будущему; необратимость времени снова приглушена гармонией как бы пространственной симметрии. Конечно, это уже не языческий миф о вечном возврате. К. Леви-Стросс назвал миф «машиной для уничтожения времени»5. «Типология» — это «машина» не для уничтожения времени, но для нейтрализации времени.
Теология александрийской школы была таким явлением мысли, которое могло претерпевать самые различные степени популяризации, вульгаризации, бытовой материализации, удерживая свои основные черты. Все средневековье постепенно разменивает умственные конструкции александрийцев на мелкую монету общедоступного назидания.
Но у экзегезы александрийского типа был аналог и собственно в бытовой сфере церковной жизни: речь идет о неуклонно развивающейся от века к веку системе годовых праздников. «Единожды умер Христос», — восклицает Августин; но каждый год в неизменной череде Пасха сменяла Страстную Пятницу. Космическое круговращение времен года было поставлено где-то рядом с неповторимостью событий «священной истории», разумеется, как подобие этой неповторимости, как ее «икона», но психологически — как ее возможная нейтрализация. Снова человек мог ощущать себя внутри замкнутого священного круга, а не только на конечном, прямом, узком пути, имеющем цель.
Вернемся к александрийской школе — и одновременно перейдем к следующему, третьему пункту наших рассуждений. У александрийской школы был соперник и оппонент— антиохийская школа. В противоположность александрийскому аллегоризму антиохийцы культивировали интерес к буквально-историческому смыслу Библии, в противоположность платонизирующему александрийскому онтологизму и космологизму — юридически окрашенную этику свободной воли, восточную идеологию священной державы и восточноэллинистический тип историографических занятий. Здесь не место рассматривать, как тенденции ан-тиохийской и александрийской школ в наиболее крайнем своем выражении дали две «христологические» ереси — соответственно несторианство и монофизитство, открывшие выход центробежным силам культурно-этнического сепаратизма; как антиохийская этика свободной воли с ее правовым уклоном повлияла на западную, латинскую теологию; как умеренные формы александрийства и антиохий-ства вошли в синтез византийского богословия. Сейчас нас занимает иное: почему выразившаяся в деятельности анти-охийцев и вообще присущая сирийско-палестинским кругам заинтересованность в историографическом оформлении идеологии священной державы тоже могла быть путем — еще одним путем, — уводившим от новозаветного, раннехристианского историзма. Основатель и классик церковной историографии, виднейший идеолог священной державы