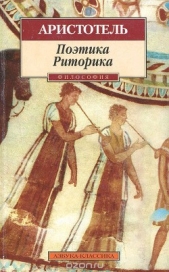Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Евсевий Кесарийский, Этот уроженец Палестины был связан с преданием оригеновского круга, но скорее биографически; он унаследовал от Оригена разве что элементы фи-лологически-полигисторской культуры и чисто теологические воззрения проарианского характера, но не основной уклон его философского мышления. Он в достаточной мере связан с ближневосточной традицией, чтобы исполнить требование эпохи и написать фундаментальный исторический труд. «Для решения этой задачи должен был прийти сириец, обладавший достаточным вкусом к конкретности единократных событий и в то же время достаточной греческой культурой, чтобы научно излагать эти события» 52. Но перспектива истории ведет в глазах Евсевия к христианской державе Константина и до некоторой степени замыкается на ней. Эсхатологическое будущее подменено политическим настоящим. Дело не в том, чтобы назвать Евсевия «сервильным» и «льстивым» автором; если бы причина такой установки сводилась к личным недостаткам характера Евсевия, весь облик византийской культуры был бы более светлым. Перед нами не лесть; перед нами официальная идеология «благоверной» государственности, принимающая сама себя вполне всерьез. Она была, правда, оспорена Иоанном Златоустом 53. Но хотя Иоанн Златоуст стал великим святым греческой церкви, а Евсевий остался полу еретиком, наиболее общие черты ходовой византийской концепции государства были предвосхищены не Иоанном, а Евсевием. За историей оставлена конкретность, но у нее почти до конца отнята открытость — хотя бы открытость на таинственное абсолютное будущее эсхатологии. Византийское христианство сравнительно мало эсхатологично54, а византийская эсхатология почти не знает тайны. История превращена в задачу с приложенным результатом. Аналогичный уклон можно усмотреть в ранневизантийских переработках библейских сюжетов, будь то апокрифы, будь то проповеди или кондаки. В Евангелиях Христос молится в Гефсиманском саду: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия»55. «Если возможно» — это условная конструкция, а условная конструкция — простейшая схема исторического свершения: через нее выражено, что настоящее колеблется и открыто будущему. Конечно, и в Евангелиях есть другая тема— тема предопределенности: «впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению». Однако обе темы остаются в отношении подвижного равновесия. Напротив, у ранневизантийских авторов тема предопределенности, мотив «предвечного совета», вневременного бытия всех вещей в замысле Бога, но также и в умах верующих решительно выходит на передний план, подавляя и глуша чувство «священной истории» как истории. Христос уже не говорит «если возможно»; он говорит совсем другие слова: «Это от начала Мне изволилось» 5. Он, уже не прощается с матерью как бы навсегда58; он разъясняет ей, что она узрит его первая по выходе из гроба5.
Здесь утрачена мистическая диалектика Нового Завета: «Мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, то, что отчасти, прекратится». Для фидеистического рационализма средних веков временами исчезало всякое «отчасти»: все разъяснено, все расписано с самого начала, как текст некоего священного действа, никто не собьется со своей роли. Фидеистический рационализм враждебен не только духу научности; в известных пределах он враждебен религиозному переживанию тайны. Абсолютное будущее слишком определенно, чтобы быть абсолютным, и, пожалуй, слишком определенно, чтобы быть будущим. Из бездны света оно превращается в массивный золотой иконостас. «Имперфект» человеческой истории, да и библейской «священной истории», не столько «прошедшее», сколько проходящее время, заменяется снятым и готовым «перфектом» извечного Божьего решения, заменяется стоящим настоящим литургии, но также имперской идеологии, которая готова отнести апокалиптические пророчества о тысячелетнем царстве мира к сбывшейся, осуществившейся еще при Константине христианской государственности 61. Настоящее остановлено; будущее — уже не совсем будущее, ибо оно в некоем идеальном плане дано готовым сейчас, но и прошедшее — не совсем прошедшее, ибо оно, как предполагается, обладало смысловым
содержанием настоящего и будущего. В самом деле, если новозаветные авторы не устают подчеркивать новизну своей веры и своей «вести», то Евсевий энергично утверждает, что в христианстве нет «ничего нового и ничего странного» 2, что в некотором смысле оно существовало от начала мира". И здесь мы имеем дело с мыслительными мотивами, которые, вообще говоря, не исключают друг друга. И Новому Завету (тем более апологетам) не чужда мысль об идеальном предсуществовании христианской веры, и Евсевий не может не считаться с конкретностью ее возникновения во времени. Но весь вопрос в том, на чем ставится акцент; и мы имеем право и обязанность отметить, что акцент переместился — с «нового» на «предвечное».
Фидеистический рационализм присущ не только византийской культуре; он характерен для всего средневековья. Чтобы христианство могло стать идеологической санкцией раннесредневековой монархии, а затем — позднесредневе-кового феодализма, его динамические идейные структуры должны были в пределах возможного быть заменены статичными. Но на Западе, где империя была слабой и обреченной, где ей предстояло перейти из мира реальностей в мир желательностей, для мистического историзма оставалось больше места. Именно там мистический историзм и был возведен на новую, философскую ступень, став основой широкого интеллектуального синтеза. Результат этого синтеза — труд Августина «О граде Божием». История человечества представлена в нем как противоборство двух человеческих сообществ («градов» в античном смысле города-государства, города-общины): мирской государственности и духовной общности в Боге. «Град земной» основан «на любви к себе, доведенной до презрения к Богу», «град Божий» — «на любви к Богу, доведенной до презрения к себе». Граждане «града Божия» хранят верность небесному отечеству и остаются «странниками» в земном отечестве. Напряжение между двумя полюсами истории мыслится не снятым и после Константина. История — это драма, разделенная на шесть актов (сообразно шести дням творения): 1-й период— от Адама до гибели первого человечества в
волнах потопа, 2-й — до Авраама, заключившего «завет» с Богом, 3-й — до священного царства Давида, 4-й — до крушения этого царства и Вавилонского плена, 5-й — до рождества Христова; 6-й период все еще длится, а 7-й даст трансцендирование истории в эсхатологическое время.
Vвек дал всему средневековью две книги, каждая из которых выразила в предельно обобщенном виде идеологические основания огромной эпохи. Но одна из них написана по-латыни, другая — по-гречески, и различие между ними как бы символизирует различие между латинским миром и ранневизантийской культурой. Тема трактата «О граде Божием» — мир как история, причем история (разумеется, «священная история») понята как острый спор противоположностей и как путь, ведущий от одной диалектической ступени к другой. Временное начало принято у Августина по-настоящему всерьез. Тема корпуса так называемых «Ареопагитик» (сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита) — мир как «космос», как структура, как законосообразное соподчинение чувственного и сверхчувственного, как иерархия, неизменно пребывающая во вневременной вечности. И Августин, и Псевдо-Ареопагит идут от идеи церкви. Но для Августина церковь — это «странствующий по земле», бездомный и страннический «град», находящийся в драматическом противоречии с «земным градом» и в драматическом нетождестве себе самому (потому что многие его враги внешне принадлежат к нему). Для Псевдо-Дионисия церковь— это иерархия ангелов и непосредственно продолжающая ее иерархия людей, это отражение чистого света в чистых зеркалах, это стройный распорядок «таинств»; о драматизме, о проблемах не приходится и говорить.
Августиновская философия истории имела на Западе таких наследников, как Отгон Фрейзингский, написавший в XII в. свою «Хронику, или Историю о двух Градах». Начавшись ортодоксальным историзмом Августина, культура западного средневековья завершает свой путь еретическим историзмом Иоахима Флорского, учившего о диалектике трех «мировых состояний» (эры Отца, эры Сына, эры Святого Духа) и вдохновлявшего ереси предвозрожденческой