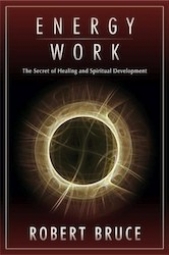Византийский культурный тип и православная духовность

Византийский культурный тип и православная духовность читать книгу онлайн
Русская версия доклада "Sonic Constant characteristics of die Byzantinc orthodox Tradition", сделанной 21 марта 2002 г на конференции Общества содействия исследованиям no византиистике "The society of promotion ol Byzantine Studies) при университете в английском городе Дарреме (36 Symposium of Byzantine Studies).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что же касается младших православных культур, как русская культура, они в целом не унаследовали византийские навыки догматических контроверз. Вплоть до эпохи св. Иосифа Волоцкого, то есть до конца XV века и начала XVI века, на Руси не было достаточно серьезных проблем с ересями (за единственным исключением языческих или манихейских тенденций в подсознании простого народа); и даже появление так называемых жидовствующих, предположительно связанных с христианско-каббалистическими и предпротестантскими настроениями Европы того времени, гоже не смогло вызвать в полемике достаточно ясной артикуляции противолежащих друг другу тезисов. В допетровскую пору концепт акривии имел на Руси приложение в основном к ритуальным вопросам, как в случае старообрядцев. Если греков в эпоху св. Григория Паламы (XIV в.) волновал вопрос, является ли благодать Божия сотворенной силой или нетварной энергией Сущности Бога, то русские участники великой контроверзы XVII века защищали двуперстное Крестное знамение (два естества Христа) против троеперстного (Три лица Пресвятой Троицы); это более похоже на присущий иудаизму вкус к галахическим тонкостям (и обусловлено по сути той же жаждой видимого знака идентичности народа Божия)... Таким образом, повышенный интерес к вопросам абстрактной вероучительной метафизики остается в мире православия по большей части греческой специальностью. (Что касается высших богословских контроверз, порожденных в лоне русской эмиграции хотя бы новшествами о. Сергия Булгакова, это едва ли не такое исключение, которое, по известной пословице, подтверждает правило.)
Упомянув древнееврейскую парадигму, я хотел бы высказать несколько наблюдений, касающихся отношения к этой парадигме православной религиозной культуры.
В контексте западного христианства такие течения, как христианская каббалистика возрожденческой и барочной эпох, гебраистические штудии некоторых немецких гуманистов (прежде всего Иоганнеса Рейхлина) и особое влечение к Ветхому Завету, столь типичное для классического протестантизма, создали определенную возможность со-знательной рефлексии относительно древнееврейских компонентом христианского наследия. В ареале византийской традиции мы по большей части не находим ничего похожего. Различие может быть прослежено вплоть до патристической эпохи: и далеко не случайно, что формула "bebraica veritas" встречается у блаженного Иеронима, то есть у представителя именно латинской, не греческой патристики. С другой стороны, однако, крайний традиционализм византийской духовности помогал сохраним - не особым сознательным усилием, но так сказать, de facto - некоторые мотивы, типичные для религиозной культуры Древнего Израиля, которые оказались утрачены па Западе.
Прежде всего, ветхозаветная топика Ковчега Завета. Скинии и затем Снятая Святых Иерусалимского храма, то есть локусов Божественного Присутствия (обозначаемого постбиблейским, но этимологически восходящим к библейской лексике термином Шехина), остается куда более актуальной и действенной для мистического материализма византийской традиции, нежели для спиритуалистского рационализма западных теологических течений. Начиная с XIII века католицизм все в большей степени закрепляет достоинство Шехины за выставляемыми для адорации Святыми Дарами; что до протестантских конфессий, они вообще почти не оставляют места для мистического материализма.
Но для православного литургического чувства богослужение как целое, отнюдь не только в момент Пресущесвления, являет собой таинство трансцендентного Присутствия. Согласно повествованию «Повести временных лет», русские люди, посланные князем Владимиром и присутствовавшие на Божественной литургии в Константинополе, выразили свой опыт в следующих словах: «Токмо то веемы, яко оньде Бог, сь человеки пребываест" (ср. молитву царя Соломона при освящении Иерусалимского храма. Книга Царств.VIII. 27:"-.. Поистине. Богу. ли жить с человеками на земле?») [5]: Византийские литургические тексты с большой эмфазой говорят вновь и вновь о литургии как о небе на земле, о сослужении сил небесных и т. п. Ветхозаветное отношение к заповедному пространству так называемого девира (Святая Святых) может быть сегодня предметом непосредственного восприятия через православный способ строить интерьер храма, подчеркивая особую святость алтарной части. Уже само обозначение святилища в русском обиходе - "алтарь", - восходящее к лексической функции греческого существительного Fvsiaошотг обозначающего уже в Септуагинте, а позднее в греческом языке византийского времени и собственно алтарь, и алтарное пространство, заставляет задуматься о многом. Вспомним также, что в Ветхом .Завете имеются запоминающиеся указания на завесы и двери, скрывавшие от очей верующих Ковчег .Завета и Святая Святых, как то: "И повесь завесу... и будет завeca отделять святилище от Святого Святых" (Исx.XXVII.33). "Для входа в девир сделал он двери" (5 Книга Царств. VI. 31) [6]. Отсюда православное обыкновение отделять алтарь от прочего интерьера храма -иконостасом. Первоначально на его месте была, как известно, только низкая преграда, но библейская идея завешенного, недоступного "девира" продолжала действовать, побуждая преграду расти выше и выше, становясь иконостасом в собственном смысле слова и полностью скрывая от глаз алтарное пространство [7].
Но образ Ковчега Завета имеет особое значение для византийской ментальности не только в качестве образца для оформления реального храмового пpocтранства, но и в метафорическом употреблен: пожалуй, и здесь он значим для Византии больше, чем для Запада. Такой чтимый в католической традиции Doctor Ecclesiae (и такой образованный человек! ) как Альфонс Лигуори, занимаясь в своих «Медитациях для Девятидневия" толкованиями на Лоретанскую литанию, то ли не понял того места литании, где Пресвятая Дева именуется "Ковчег Завета" ("Foederis arca"), то ли, что вероятнее, счел эту метафору слишком непонятной для своих читателей; так или иначе, он заменил Ковчег Завета в его символической функции - Ноевым Ковчегом. Мы читаем у него: «В Ковчег Ноя принимали только по одной паре от каждого рода животных, но под покровом Марииным находят себе место праведные и грешные» [8]. Напротив, в византийской гимнографии, например в том знаменитейшем гимне, который именуется Акафистом Пресвятой Богородице, мариологические образы и метафоры, соотнесенные с Присутствием Божиим над Ковчегом Завета, появляются снова и снова: е«об «xupri топ хшра («Бога невместимаго Вместилище», икос 8), "Охпца iravayiov тоб ётт! x(bv Хсрирф («Колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех», там же), октц-л той веоо ка! Лбуои («Скиния Бога и Слова", икос 12), 'Ayia 'Ayiwv idfav ("Святая Святых большая", там же), Kip<oT€ %рмои>Шаа тф Пиеицст («Ковчеже, позлащенный Духом», там же).
Весьма характерно, что в православном лексическом обиходе традиционное обрамление иконы, напоминающее по форме ларец, обозначается греческим именем Ковчега: керсотбе церк.-слав. / рус. «кивотъ». Трудно не вспомнить в этой связи лесковских старообрядцев из «Запечатленного ангела», которые говорят о своих любимых иконах, сопровождавших их в их артельных странствиях: «И были-с эти два образа для нас все равно, что для жидов их Святая Святых, чудным Веселила художеством украшенная».
Православное отношение к иконе принадлежит к самым разработанным темам. Пожалуй, нам, русским православным интеллигентам, свойственно говорить на темы так называемого богословия Иконы подчас даже с избыточной эмфазой. Позади у нас десятилетия, когда о. Флоренский восхвалял рублевскую «Троицу» как наилучшее доказательство бытия Божия и когда несколько позднее молодые интеллигенты советской поры обращались к вере, посещая собрание икон в Третьяковской галерее; не приходится удивляться, что мы бываем склонны к преувеличениям. Едва ли возможно, однако, говорить об эстетической атмосфере, создаваемой православным типом духовности, не упомянув хотя бы самых основных особенноетей этого типа сакрального изображения.