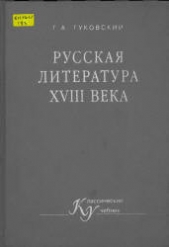Классическая русская литература в свете Христовой правды

Классическая русская литература в свете Христовой правды читать книгу онлайн
С чего мы начинаем? Первый вопрос, который нам надлежит исследовать — это питательная среда, из которой как раз произрастает этот цвет, — то благоуханный, то ядовитый, — называемый русской литературой. До этого, конечно, была большая литература русская, но она была, в основном, прицерковная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Удивительно, но даже те, по кому сталинские репрессии прошлись своими гусеницами, тем не менее оказывались не просто верноподданными, они оказывались сталинистами. На смерть Сталина Ольга Берггольц пишет стихи, каких не дождалась царская семья. И эта интонация -
Обливается сердце кровью
Наш любимый, наш дорогой!
Обхватив твоё изголовье,
Плачет родина над тобой.
В стихах есть, конечно, здесь определённый бабий взрыд, но есть и что‑то другое. Ведь для того, чтобы лгать, надо хотя бы наполовину сначала обмануть себя; чтобы пребывать в эйфории, надо бояться открыть глаза.
Получается, что для того, чтобы внутренне повторять, что “жизнь даётся только раз”, - ну, известный романс помогает: “Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвётся нить”; но для того, чтобы это повторять, надо внутренне хотя наполовину убедить в этом самого себя.
Трудно сказать, какие бывают исключения. Про Бориса Леонидовича говорить будем отдельно, но он старше на 15 лет Ольги Фёдоровны; когда ей было 21, ему было 36, и это большая разница. 36 – это для Пушкина последний год жизни, а для Пастернака, которому Господь соразмерил жизнь более продолжительную, - только к 36-ти годам у него ломается голос отроческим ломанием. Хорошие стихи он писал и задолго до, у него и в 1913-м году есть хорошие стихи, но это всё‑таки голос молодого поэта. Голос зрелого поэта в нём прорезается в 30-м, в 31-м годах, и недаром соответствующий цикл стихов называет прямо “Второе рождение”. И уж, конечно, вся евангельская реминисценция наличествует в этих стихах.
Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их отведав,
Не кончить полной немотой.
Пусть поздно, но всё‑таки эти слова, что “кризис назрел”, - они должны были застрять в горле. Так же, как “Не спи, вставай, кудрявая” и, вообще, масса строк должна была застрять, ими надо было поперхнуться, где-то на каком-то рубеже упереться и ниже уже не ползти.
В родстве со всем, что есть. Уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям
Но сложное понятней им.
“В родстве со всем, что есть, уверясь, … но сложное понятней им”. Конечно, мы – глина, и горшки, то есть создание одного Творца, но в духе нашем, душе и теле – дело Его рук. Человечество есть единство и всё, созданное руками Господними, несёт на себе печать тварности. Но если, как у Валентина Распутина, что “с камня не спросится, что камень он, а с человека спросится”. И “знаясь с будущим в быту”, не в мечтах, не в предначертаниях, мы своё собственное будущее творим сегодня, оно к нам вернётся, и в том числе и как наше наказание. И тогда действительно “нельзя к концу не впасть как в ересь”. Какая ересь? – ересь с точки зрения идеологии.
А следующая строфа объясняет всё: “но мы пощажены не будем, когда ее не утаим” - вот этой “неслыханной простоты”; и приходится знать многое про себя.
Можно с полной уверенностью утверждать, что именно такое толкование в эту фразу вложено. Мне довелось это знать точно, так как с Пастернаком был знаком мой отец (лично и правильно): сначала по Гослитиздату, а потом и по Переделкино (примерно в 1958 году).
“Неслыханная простота” оказывается в самых простых человеческих словах, ведь вот и “совесть даётся только раз”. Почему именно после войны и когда закончилась послевоенная остаточная эйфория. В конце 40-х и с начала 50-х годов опять начались аресты (52-й – дело врачей и так далее) и люди вдруг стали догадываться, что эйфория кончилась, что она опадает, что можно забыть о ней. Если посмотреть летопись главных редакторов Гослита: Сергей Бычков, Анатолий Котов, Александр Пузиков, то можно прямо ставить – спился, спился, спился и повесился, как Бычков. Деваться некуда.
Дальше начинается несколько другое, другая поэзия. Глубокое разочарование рождает какое-то новое переосмысление, но любая переоценка ценностей даёт мысль. Говорят: тюрьма да сума дадут ума.
Существовала ещё одна причина для довоенной эйфории; то, что Солженицын называл “маршелюбие, строелюбие”, это тоже было; но была и другая причина – это задуманная и ещё установленная Лениным, подхваченная всеми последующими вождями, система искусственных дефицитов. (За новаторство не платят, а платят за верную службу). Писатели, как верные клячи, тянут все свои жилы, чтобы верно послужить. Поэтому, когда на грани своего жизненного пути Ольга Берггольц скажет:
Нет, не из книжек наших скудных
Подобья нищенской сумы…
Каждую строчку надо было выхлопотать, выходить, ведь даже верноподданные вещи годами валялись в редакционных портфелях; даже серьёзные вещи.
То, что, например, быстро вышла книга Вероники Тушновой “100 часов счастья”, так тогда уже все знали, что у нее рак и что ей осталось жить считанные месяцы. А если человек более или менее в силах и, как пишут в анкетах, практически здоров, то и подожди, и подойди и ещё, и ещё раз расскажи и докажи свою верноподданность.
Поэтому, когда человек, наконец, просунулся и видит себя опубликованным, хотя силы, затраченные на публикацию, не сравнимы с жиденьким результатом, то эти затраченные силы тоже дают себя знать.
Есть и особого рода привычка, как Обломов говорит – я прирос сюда больным местом, оторви - будет смерть. А ещё выразительней Бертран (“Роза и крест” Блока) – “разве я могу изменить тому, чему всю жизнь служил? Ведь измена, даже неправде, всё изменой называется”. Понять этот сложный комплекс причин – значит, понять, что и почём. Только после этого можно понять: почему у людей прорезается голос, когда они перевалили за сорок лет.
Даже военные стихи Ольги Берггольц все тянут на эйфорию – такую, такую …, “чтоб внуки позавидовали нам”. А уже в 52-м году
Я сердце своё никогда не щадила
Ни в песнях, ни в дружбе, ни в горе, ни в страсти…
Сердце-то не щадила, но она и имени своего не щадила, и репутации своей не щадила. Уж если не Бога побоявшись и людей не постыдившись, всё‑таки ей надо было кое в чём повоздержаться.
Если, например, мы читаем у Ахматовой
Пока не свалюсь под забором,
И ветер меня не добьёт,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжёт.
Так это – литература, а у Ольги Фёдоровны – это горькая правда: она действительно сваливалась под забором. Так вот:
Прости меня, милый. Что было, то было.
Мне горько. И всё-таки, всё это- счастье.
И то, что я страстно, горюче тоскую,
И то, что, страшась небывалой напасти,
На призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно. И всё-таки всё это - счастье.
Пускай эти слёзы и это удушье,
Пусть хлещут упрёки, как ветки в ненастье:
Страшней всепрощенье, страшней равнодушье.
Любовь не прощает. И всё это – счастье.
Конечно, “всепрощение” у нее срастворено с брезгливостью, поэтому дальше и идёт, что “страшней равнодушье”.
Я знаю теперь, что она убивает,
Не ждёт состраданья,
Не делится властью.
Покуда прекрасна, покуда живая,
Покуда оно не утеха, а счастье.
Это 1952 год, то есть, ей 42 года. Кстати, она очень долго была обаятельна, и не столько внешностью, а вот умом, грацией, женским остроумием (крайне не навязчивым). Чрез восемь лет – 60-й год.
А я вам говорю, что нет
Напрасно прожитых мной лет,
Ненужно пройденных путей,
Впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
Нет мнимо розданных даров,
Любви напрасной тоже нет,
Любви обманутой, больной;
Ее нетленный, чистый свет