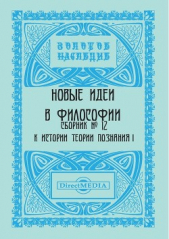История и повествование

История и повествование читать книгу онлайн
Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях. Являясь очередным томом из серии совместных научных проектов Хельсинкского и Тартуского университетов, книга, при всей ее академической значимости, представляет собой еще и живой интеллектуальный диалог.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вот ирония судьбы. Девочка Гела, с которой Наталия Забила велела всех ребят отождествить себя, во время перестройки выступала в газете «Труд» с рассказом о том, что произошло после встречи со Сталиным в 36-м году. Уже год спустя счастливому детству пришел конец. Ее отца-коммуниста, вместе с которым она была в Кремле, арестовали и расстреляли. Письмо Гелы Сталину, с упоминанием об их встрече, привело к аресту матери. Последующие годы девочка прожила в ссылке: после войны ее жизнь во многом была осложнена тем фактом, что она являлась дочерью «врага народа» [904].
Таким образом, символическое значение сцены, на которую смотрят дети, иное, нежели представляла себе Забила. «Великий друг детей» оказался их злейшим врагом. Чем ближе дети приближались к Сталину, тем опаснее становилось их положение. Речь идет о великом обмане, в котором советские детские писатели играли активную роль.
Роман Тименчик
1960-е годы в записных книжках Анны Ахматовой
Записные книжки Ахматовой [905], которые она как-то назвала «книгой жизни» (с. 341), являют собой гетерогенный, но единый нарративный текст, в котором отражена история 60-х годов XX века (1958–1966). Единство текста строится на взаимоперекличках стихов и прозы, «творческих» и «бытовых» записей. Жанрово-тематический состав ахматовских рукописных книжек многоразличен: ежедневник (organizer), брульоны, шпаргалки, альбом, книга посетителей и, как принято говорить в российской текстологии о классиках, — записи на первом попавшемся листке. Парадные автографы стихотворений, наброски стихов, конспекты словесных цепочек [906], подсчеты долгов и гонораров, пробы вечного пера (авторучки тож), исправные дневниковые репортажи [907], выписки, адреса, конспекты, сны, страхи.
К самому концу жизни дневниковые записи, поначалу предельно конспективные, становятся все пространнее. Они сделаны в больнице после четвертого инфаркта и в последовавшем за больницей реабилитационном санатории. Они окрашены предчувствием приближающейся смерти, и сама их возрастающая продолжительность до известной степени является магическим актом продления жизни.
В этой связи следует заметить, что важнейшей внутренней семантической чертой ахматовских записей является их появление в результате преодоленного отвращения к письму как таковому. Автору этих записей, пестрящих описками [908], были присущи разные формы аграфии и дисграфии, увековеченные прозвищем, полученным ею от друзей в бытность секретарем Цеха поэтов, — «секлета Анне Гу» (с. 430), и шутливо канонизированные в ее рабочем титуле задуманной прозы: «Кига». Представляется, что такая конфликтная энергетика преломляет этос сообщения, внося дополнительное смысловое измерение в текст, с которым нельзя оперировать так, как будто владелец этих блокнотов «изъяснялся непосредственно на гербовой бумаге», как говорит Мандельштам в «Разговоре о Данте». Страх письма получил в советскую эпоху дополнительную мотивировку [909], и в самое жанровое качество некоторых ахматовских записей входит установка на недолговечность подлежащих уничтожению занесений [910].
Смысловая многомерность едва ли не каждой из записей обеспечивается еще и тем, что они возникают в темпоральном пространстве календаря. Еще точнее — взаимоналагающихся календарей, светского и церковного (ср. например, «День церковного новолетия (с. 668)» — то есть 14 сентября, начало индикта), юлианского и григорианского, подменяющих друг друга, «личного» и «всеобщего» [911]. И дата из 1960-х годов оказывается нанизанной на стержень «вертикальных» соответствий:
10 марта, поминальный день двух русских прозаиков ахматовского поколения, парадигматическая дата суда над поэтом («Факел, ночь, последнее объятье, за порогом дикий вопль судьбы») и дата второго из трех арестов сына (с. 308, 445).
Необъявленный календарь скрывается за общедоступными сакральными датами, как это происходит с непередвижным праздником Крещения, шекспировской двенадцатой ночью, или «крещенским вечером», как называлась комедия Шекспира в старых русских переводах, — вечером Светланиной ворожбы [912]. Дата последнего свидания с И. Берлиным — 4 или 5 января 1946 года — подтянута в третьем посвящении «Поэмы без героя» к вечеру королей, посещению волхвов.
В «необъявленной» части мифологизация этой даты объясняется тем, что на 24 октября 1906 года (по старому стилю) «первый жених» Н. Гумилев в письме из Парижа в Россию назначал Ахматовой «телепатическое свидание».
В конечной смысловой перспективе календарных привязок каждой записи мерцает исчисление сроков «дня последнего». Проясняет это последняя в жизни Ахматовой запись, сделанная за день до смерти в санатории в Домодедове.
«4 марта <1966>Лежу до 8-ого (велел здешний врач). Здесь просто хорошо и волшебно тихо.
Я вся в Кумранских делах. Прочла в „Ариеле“ (изр<аильский> журнал) о последних находках [913]. <…> Точно описан Апокалипсис с редакторск<ими> заглавия<мн> и поведение первых Мучеников. Почему-то евреев (не христиан) римляне вовсе не мучили. <…> Отчего же римляне так страшно мучили кротчайших христиан еще до 73 г., т. е. сразу после смерти Христа (33 год)».
«Шестидесятые годы» (на наш взгляд, и завершившиеся именно со смертью Ахматовой) проецируются на времена и места эсхатологических чаяний, чему из окружающей действительности подбираются подтверждения [914]. Эта проекция вытесняется в сны и из снов приходит. 30 августа 1964 года записано о поездке из Ленинграда в Комарово: «Едем небывалой дорогой (парками) через очень странное, очень красивое наводнение. [Оно] Вода (без ветра) совсем, как жидкое серебро или ртуть. [Вода] Она тяжело и медленно выливается из берегов, образуя неожиданные островки и грозя бедой. Я в первый раз видела дуб, посаженный Петром Первым. Эсхатологические небеса, почти с грозной надписью [915].
Мой сон накануне превосходил все, что в этом роде было со мной в жизни. Я видела планету Землю, какой она была через некоторое время (какое?) после ее окончательного уничтожения. Кажется, все бы отдала, чтобы забыть этот сон!» (с. 485–486) [916]. Ср. последующие записи: «Сон на 30 авг[уста] продолжает угнетать меня и с каждым днем все страшнее. Зато отъезд по таинственному безветренному наводнению все хорошеет» (с. 487). «Ночь в полукошмарах, но по крайней мере не эсхатологических, как 30-го, и то хорошо» (с. 488). «Альпы. Трясет, как никогда, в вагоне. Зимой зрелище мрачное. Снова вспоминаю сон 30 авг[уста] о хаосе» (с. 581).
Посещение Европы в конце 1964 года дало новую пищу для апокалиптических прозрений. Затронутый в записи от 30 августа петербургский эсхатологический миф о восстании водной стихии против культурной воли основателя [917] находит отголосок в наброске прозы с апокалиптическим числом (искаженным опиской) от 24 декабря 1965 года: «Кто видел Рим, тому больше нечего видеть. Я все время думала это, когда в прошлом году смотрела на него прощальным взором и во мне зрела 66[6]-ая проза. А ярко-синяя вода била из его древних фонтанов, как из щелей, куда пробралось море» (с. 689–690).