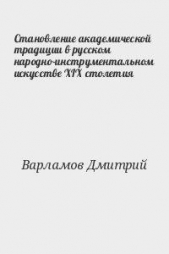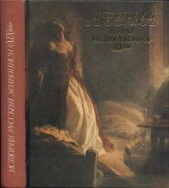Короткая книга о Константине Сомове

Короткая книга о Константине Сомове читать книгу онлайн
Книга посвящена замечательному художнику Константину Сомову (1869–1939). В начале XX века он входил в объединение «Мир искусства», провозгласившего приоритет эстетического начала, и являлся одним из самых ярких выразителей его коллективной стилистики, а после революции продолжал активно работать уже в эмиграции. Книга о нем, с одной стороны, не нарушает традиций распространенного жанра «жизнь в искусстве», с другой же, само искусство представлено здесь в качестве своеобразного психоаналитического инструмента, позволяющего реконструировать личность автора. В тексте рассмотрен не только «русский», но и «парижский» период творчества Сомова, обычно не попадающий в поле зрения исследователей.
В начале XX века Константин Сомов (1869–1939) входил в объединение «Мир искусства» и являлся одним из самых ярких выразителей коллективной стилистики объединения, а после революции продолжал активно работать уже в эмиграции. Книга о нем, с одной стороны, не нарушает традиций распространенного жанра «жизнь в искусстве» (в последовательности глав соблюден хронологический и тематический принцип), с другой же, само искусство представлено здесь в качестве своеобразного психоаналитического инструмента, позволяющего с различных сторон реконструировать личность автора. В тексте рассмотрен не только «русский», но и «парижский» период творчества Сомова, обычно не попадающий в поле зрения исследователей.
Серия «Очерки визуальности» задумана как серия «умных книг» на темы изобразительного искусства, каждая из которых предлагает новый концептуальный взгляд на известные обстоятельства.
Тексты здесь не будут сопровождаться слишком обширным иллюстративным материалом: визуальность должна быть явлена через слово — через интерпретации и версии знакомых, порой, сюжетов.
Столкновение методик, исследовательских стратегий, жанров и дискурсов призвано представить и поле самой культуры, и поле науки о ней в качестве единого сложноорганизованного пространства, а не в привычном виде плоскости со строго охраняемыми территориальными границами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если подцвеченный акварелью, белилами и цветными карандашами рисунок вполне ложится в циклический ряд, то гуашь из этого ряда отчетливо выбивается. Для Сомова, склонного к тональной сплавленности и монохромности, крайне не характерна такая открытость языка, такая предельная звучность красок — лицо модели здесь оказывается неким вместилищем рефлексов, идущих от «взрывчатых» цветов одежды, элементом в декоративно организованной системе. «Король эстетов, законодатель мод и тона» (по словам И. Одоевцевой), Кузмин и строил свой образ от внешней атрибутики. Смена вишневой поддевки и золотой парчовой рубахи на европейское платье в 1906 году и расставание с бородой тогда же знаменовало перемену участи: человек «древнего благочестия», из старообрядческих скитов как бы нечаянно занесенный в мир петербургской богемы, превращался в денди, в «русского Брюммеля» («триста шестьдесят пять жилетов», — констатировала та же Одоевцева), на уровне литературной и житейской программы озабоченного прежде всего тоном «галстуха». «Хотелось и в авторах и в себе иметь только легкое, любовное, блестящее, холодноватое, несколько ироническое, без au delà, без порывов в даль, без углубленности», — записывает Кузмин в своем дневнике в 1907 году; в сущности его не раз декларированная любовь к искусству Сомова вписывается в данную формулу. И Сомов в гуашевом портрете пишет внешнего человека (внешнего — то есть живущего как бы вовне, центробежно), сознательно эпатирующего и одновременно привлекающего; человека, у которого даже природой данные черты лица назначены работать на «имидж» — в частности, знаменитый «тягучий» взгляд («мысленно подведенные вифлеемские глаза» — А. Ремизов; «сверхъестественные византийские глаза» — И. Одоевцева; «глаза как у верблюда или прекрасной одалиски — темные, томные, огромные. Бездонные глаза, полные женской и животной прелести» — она же). Но «имидж» есть нечто изменчивое — он подвержен волевому выстраиванию и перестраиванию: не случайно, например, Анне Ахматовой Кузмин казался воплощением сатанинского начала («перед ним самый смрадный грешник — воплощенная благодать»), а Марина Цветаева, напротив, возводила его едва ли не в ангельский чин («лучше нельзя, проще нельзя»). Эта готовность к перемене (к измене) воплотилась в подвижной фактуре портрета, в текучей экспрессии формы («я… все надеялся, что он затанцует, — вспоминал об увиденном им в детстве Кузмине Евгений Михайлов, — моих надежд он не оправдал и ушел, не протанцевав»). Можно сказать, что модель в каком-то смысле победила автора, подчинив образ собственной режиссуре. Но — возможно, и автор осознавал в данном случае «прелесть обмана» («все зыбко, переменчиво, обман и тут и там», — в своем роде лейтмотив кузминских стихов и «песенек»).
Зато в рисунке он выходит из-под власти эманаций, излучаемых моделью. Чистейший контур, деликатная светотень почти не читается непосредственно, «эмалевая» поверхность как бы светится и бликует, отражая импульсы. Абсолютная материальная иллюзорность формы — и вместе с тем эта форма идеальна; рытвины рельефа и цветовые переходы, столь внятные в гуаши, здесь сгладились, сошли на нет. Как писал по поводу сомовских портретов сам Кузмин, «подчеркнутая прелесть (почти неодухотворенная) кожи, молодости, эфемерной плотской жизни, летучего блеска глаз, почти такого же, как отливы шелка, меланхолическая и хрупкая…» — и указание на «неодухотворенность» в этом перечне свойств весьма существенно. Слишком пристально увиденное лицо, из которого тем не менее исключено все то, что можно разглядеть пристальным зрением, и прежде всего исключена динамика (каковая и есть знак беспрерывно осуществляющейся духовной жизни), становится фантомной оболочкой, чем-то сродни то ли музейной вещи, то ли жуку на булавке, рассматриваемому в бинокуляр. Облик поэта Кузмина, подвергнутый такой консервации, уже напоминает «памятник поэту» — настолько он эстетизирован и отвлечен от реального бытового темперамента героя. «Мучительно, почти враждебно обращаясь со своей моделью» (слова Кузмина), Сомов на этот раз одерживает победу, — но вместе с тем его победа окрашена в драматические тона, ибо «мемориальное» свечение портрета в широком контексте означает излет культуры, ее уже «опечатанный», сохраняемый статус. Само бытие человека — бытие поэта — сближено с понятием культуры, осмыслено как культура, и культура уходящая, которой уже почти нет, — это уходящее из человека бытие, покидающая его жизнь, после которой остается памятник или — жук на булавке. Ретроспективный пафос сомовских портретов парадоксально сочетается с одновременной футурологической направленностью; реквием по эпохе обещает ее грядущее археологическое открытие снова цитируя Бенуа, «„головки на лоскутках“… будут говорить о нашем времени…».
Они говорят, конечно, прежде всего о том, как выглядели творцы и значимые фигуры Серебряного века. Сомов не ставил перед собой ни концептуальных задач (этот уровень сам собой надстраивается над контекстом его вещей), ни психологических — просто стремился быть точным, пассивно и безоценочно точным, в жертву этой отражательной точности принося даже соображения графической специфики; человеческое лицо, выключенное из мировых связей, без биографии и судьбы, интересовало его как неподвижный предмет изображения. Здесь присутствовала еще и личная потребность самоустраниться из изобразительного «текста» — в расширенном смысле, из жизни, требующей решений и чреватой своеволием: в равной мере проявлением такой эскапистской потребности было бегство в театральную условность ретроспективных жанров, в стилизацию «под Энгра» или «под Натура» в поздней графике и в оптические «обманки» (тоже ведь от слова «обман»). Но в столкновении с «живым» простая мотивация обнаруживала свою диалектику: преодолевая «сопротивление материала», Сомов и сам сомневался, что практика «поднесения зеркала» к изолированным объектам есть вершина художнических усилий и должна таковой быть.
Развитие этих сомнений логически вело к двояким последствиям. С одной стороны, к еще большему опредмечиванию натуры, с другой — к поискам раз и навсегда сложившейся жанровой формы, позволяющей осуществить такое опредмечивание как бы не от первого лица, скрыв волю автора за требованиями изобразительного канона. Такой формой стала для Сомова форма парадного живописного портрета — и с этим связана еще одна страница его творческой биографии.
ГЛАВА 6
«Модный портретист»
В русском искусстве рубежа веков понятие «парадный портрет», некогда утратившее смысл вместе с концом романтизма, обретает второе рождение. И модерн, который в своих движениях идет мимо портрета и мимо гуманистической проблематики в целом, косвенно все же в том повинен. Именно пафос формообразования возбуждает память об устойчивом величии былых мотивов, а также чуткость к антуражу: к переливам ткани, сверканию драгоценностей, блеску убранства — ко всему, что некогда составляло словарь примет «большого стиля». Одновременно возникает и ширится круг заказчиков (даже, скорее, заказчиц), к приметам этим неравнодушных.
Вероятно, не случайно карьера Сомова-портретиста начинается в Москве — именно здесь в среде богатого купечества и промышленно-финансовой буржуазии складывается круг потребителей «новой красоты» в ее исторически устойчивых формах. Здесь работает Валентин Серов, с равным стильнопостановочным размахом портретируя князей и нуворишей, — и его картины в некотором смысле «устанавливают планку» в уровне жанра. Открывая «Портретом Генриетты Гиршман» (1911) собственный ряд образов «московских красавиц», Сомов как бы вторгается в серовскую «вотчину» (тем более что и заказы часто совпадали — в 1907 и 1911 годах Серов портретировал Гиршман, а в 1909-м сделал портрет Елены Олив); невольное соревнование, по мнению большинства критиков, не приносит ему успеха.
В том, что критики «своего круга» отрицательно отнеслись к московским работам, была очевидная логика — эти работы знаменовали радикальный крен в сторону от ретроспективных портретов начала века, в данном кругу встреченных восторженно. Игорь Грабарь, прежде именовавший Сомова «лучшим портретистом последних десятилетий» («и если он не такой живописец, как Серов, то во всяком случае он не менее метко, а часто и более проникновенно, схватывает характер человека»), воспринял новую стилистику как явный упадок (из писем Александру Бенуа: «Боюсь идти смотреть сомовский портрет Генриетты, потому что слышал, что он еще хуже Носовой, а тот нестерпим на мой дилетантский взгляд»; «Эта „Дама в красном“ (М. Д. Карпова) — неизмеримо хуже не только Носовой, но и прекрасной Генриетты. Я готов был провалиться сквозь землю, когда ее увидел»). Московской публике, напротив, вещи нравились (мнение М. В. Нестерова о портрете Носовой — «…шедевр! — произведение давно жданное, на котором отдыхаешь. Так оно проникновенно, сдержанно-благородно, мастерски законченно! Это не Левицкий и не Крамской, но что-то близкое по красоте к первому и по серьезности ко второму…»); весьма довольны были и заказчики. Ситуация с публичным успехом в данном случае симптоматична: именно этой линии портретирования предстояло получить развитие и долгое продолжение в сомовском творчестве.