Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время
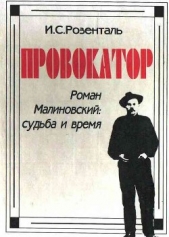
Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время читать книгу онлайн
В книге исследуется одна из наиболее скандальных и загадочных страниц революционного движения в России. Судьба полицейского агента и видного большевика Р. В. Малиновского рассматривается на фоне важнейших событий XX века, в связи с представлениями современников о соотношении политики и нравственности. Выясняются причины распространения провокаторства, особенности психологии провокаторов, преемственность между царской охранкой и органами ВЧК. Книга основывается на ранее недоступных историкам архивных документах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но и тема обманутого доверия не получила какого-либо развития в ленинских сочинениях. Дело Малиновского явилось предметом его анализа только в 1920 г. и в другой плоскости — с точки зрения применимости опыта большевизма в странах Запада. Речь шла о тактике и кадровой политике коммунистических партий, копировавших большевиков в надежде на близкую мировую революцию.
В книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», где в сжатом виде излагался эпизод с Малиновским, Ленин сравнивал условия устойчивого легального положения рабочих партий, обеспечивающие «нормальное, простое отношение между вождями, партиями и классами», с условиями полу подпольной деятельности, подобными тем, что были в царской России. Такие условия, заставляя с особой тщательностью скрывать «главный штаб» партии, ее ЦК, порождали и «глубоко опасные явления», худшим из которых оказалось проникновение в этот штаб Малиновского [684].
Отсюда следовало, что ошибки не могло не быть по причине неосуществимости для нелегальной партии того требования, которое Ленин же провозгласил еще в 1903 г.: вся партия должна видеть как на ладони каждого кандидата на руководящий пост со всеми его индивидуальными особенностями [685]. Фактически согласившись с меньшевиками, Ленин отказался от прежней уверенности в том, что можно парализовать провокацию при хорошо налаженной конспиративной технике, дисциплине и организованности. На сей раз из опыта большевиков извлекался более осторожный вывод: зло, причиняемое провокаторами, можно лишь уменьшить путем правильной постановки соотношения легальной и нелегальной работы («чтобы снискать доверие у нас, Малиновский, как член Цека партии и депутат Думы, должен был помогать ставить нам легальные ежедневные газеты…помогать воспитанию десятков и десятков тысяч новых большевиков через легальную прессу») [686].
Итак, то, что Ленин излагал в 1917 г. следователю Чрезвычайной следственной комиссии, теперь предлагалось взять как образец партиям Коминтерна. В 1921 г., накануне III конгресса Коминтерна он повторил этот вывод в третий раз, рекомендуя О.В.Куусинену — автору проекта тезисов по организационному вопросу дополнить проект параграфом о борьбе с шпионами и провокаторами, в частности, путем сочетания легальной работы с нелегальной и проверки пригодности того или иного лица к нелегальной работе посредством продолжительной легальной [687]. В тексте, принятом конгрессом, утверждалось, что такая проверка позволит испытать, «кто достаточно надежен, смел, добросовестен, энергичен, ловок, чтобы ему могла быть доверена соответствующая его способностям нелегальная работа» [688].
Инструкция Ленина — Куусинена для коминтериовских кадровиков оказалась, однако, в противоречии со своей исходной фактической основой: ведь Малиновский — и не только он — прошел искус довольно продолжительной легальной подготовки и обладал чуть ли не всеми перечисленными достоинствами. Сомнительно, чтобы этот рецепт помог компартиям Запада.
В «Детской болезни» Ленин вообще не касался уроков дела Малиновского применительно к той единственной компартии, которая превратилась в правящую и, следовательно, по Ленину, обрела, наконец, идеальное отношение между вождями и классами. «Глубоко опасных явлений» в жизни РКП(б) он пока не видел. Между тем дело Малиновского сфокусировало в себе не только внутреннюю противоречивость революционного движения и неизбежную разнородность его участников, но и неоднозначность его последствий. Все это осталось за пределами ленинского анализа.
Российское провокаторство начала века имело сложную природу. Еще в 1906 г. под впечатлением публикаций журнала «Былое» Е.В.Тарле писал: «Дегаевщина и все, что Дегаева касается, убедили меня, что история иногда бывает Федором Михайловичем Достоевским и показывает такие мрачные пучины человеческой души, какие только Достоевский умел показывать». Если же говорить о таких фигурах, как Малиновский, Абросимов, Серова, то психологически провокаторство было родственной той раздвоенности чувств, какую 3.Фрейд считал наследием душевной жизни человека первобытных времен с приматом в ней бессознательного. «Кто попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе высокие нравственные цели…, напоминает варваров… Эта сделка с совестью — характерная русская черта», — писал оп, ссылаясь на Ивана Грозного и героев Достоевского. Современный исследователь полагает, что в своем обобщении Фрейд отдавал дань стереотипу восприятия России, который сложился на Западе. Вместе с тем он находит убедительные параллели наблюдениям Фрейда в творчестве писателей и философов «Серебряного века», в сходной трактовке ими противоречий «русской души» [689]. С этой точки зрения провокаторство было лишь частным случаем психологического феномена, имевшего не только политическое измерение.
Это был и социальный феномен. Малиновский и ему подобные, оставаясь связанными с той средой, в которой выросли и действовали, не могли быть просто «оборотнями». В их поведении обнаруживались маргинальные черты психики: постоянное чувство тревоги, ощущение непрочности своего положения, агрессивность и неуживчивость, обостренное честолюбие.
Интеллигенция предлагала разные объяснения распространенности провокаторства — от признания нравственной деградации революционного движения, порожденной уродствами политической культуры подполья, до констатации изначальной порочности менталитета революционеров, стирающего грань между революционным максимализмом и авантюристическим двурушничеством. В конечном же счете сближение того и другого было обусловлено кризисным состоянием общества, внутриполитической обстановкой после 1905 года. Маргинализация низов и разложение правящей верхушки сопровождались раздроблением морально-правового пространства. Праву все чаще противопоставлялись индивидуальные и групповые представления о жизни «не по законам, а по совести». Правовой нигилизм оправдывался тем самым этически: если черносотенцы прославляли «народный самосуд» над «крамольниками» ради высшей цели — спасения самодержавия, то левые радикалы — «революционное творчество масс», всевозможные виды «захватного права». Крайности сходились в однотипном «баррикадном сознании».
В революционные эпохи далеко не случайно приобретает особую остроту проблема соотношения политики и нравственности.
Режим, против которого ведется борьба, и его функционеры объявляются с большим или меньшим основанием глубоко безнравственными. Революция понимается (или изображается) как способ радикального нравственного очищения. Тон морального суда над царизмом господствовал в общественном мнении накануне и после Февральской революции, когда Государственная дума и пресса усиленно эксплуатировали такие темы, как роль Распутина и других «темных сил» при дворе Николая И, национальная измена (сначала представителей старой власти, а уж затем большевиков).
В этих кампаниях было немало конъюнктурной «пены», но присутствовала и высокая нота нравственной требовательности, характерной для той части образованного общества, где еще сохранял свое значение моральный климат, созданный историей интеллигенции в России. Александр Блок так описывал бывших руководителей политического розыска во время их допросов в Чрезвычайной следственной комиссии: «Культуры никакой в Белецком нет. Откуда же ему быть не таким «деловым»; «Когда речь заходит о морали, о преступлении, лицо Белецкого делается равнодушным»; «Муравьев взывает к впечатлительности, к чувствам Виссарионова, а тот не может ничего сказать, молчит. Понятно: ничего же они не чувствовали, друг другу не верили, завидовали, подводили» [690].


























