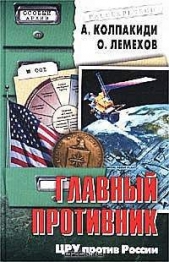Икона и топор

Икона и топор читать книгу онлайн
Эта книга представляет собой истолкование истории русской мысли и культуры нового времени. В ней воплотились знания, размышления и сфера интересов одного исследователя. У автора не было иллюзий относительно тех задач, которые он перед собой ставил: книга меньше всего претендует на то, чтобы явить энциклопедический свод русского культурного наследия или снабдить читателя «ключом» к его пониманию. Здесь произведен отбор материала, который призван не просто обобщить то, что уже и так хорошо известно, но ввести в оборот новые факты и дать им объяснение: не столько «охватить» эту необъятную тему, сколько обозначить подступы к ней.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ценой русского приобщения к Европе стало участие в почти непрерывных войнах, из которых возник новый монархический абсолютизм конца XVII — начала XVIII вв. Русское приобщение было частью более глубоких взаимосвязей, возникавших между Восточной Европой и Западной. Густав-Адольф, превративший Швецию в образец для многих европейских стран, ощутил эту связь на исходе третьего десятилетия XVII в., указав — еще до заключения союза с Россией, — что «все европейские войны сплетаются в один клубок, становятся одной всеобщей войной» [393].
Всеобщая война — очень неплохое определение для схватки, которая довольно быстро сменила сверхнебесные идеалы пещерным поведением и прокатывалась взад и вперед по континенту, подчиняясь своим особым ритмам и логике. Католическо-протестантская война между шведами и поляками в начале века угасла как раз тогда, когда конфликт в 1618 г. распространился дальше на Запад через имперскую Богемию. Затем, в том самом 1648 году, когда в Западной Европе завершилась очень запутанная и крайне свирепая Тридцатилетняя война, на Востоке вновь вспыхнули военные действия, сопровождавшиеся самой большой единовременной резней евреев, какую мир знал до Гитлера [394]. Следующие семьдесят пять лет Восточная Европа почти все время представляла собой поле сражения. Ветераны Тридцатилетней войны и Гражданской войны в Англии нанимались на службу к тому, кто платил больше, и приносили с собой бедствия, болезни, штыки и безнадежное признание, будто «самое состояние рода людского есть не что иное, как status belli» [395]. Мало-помалу, хотя отнюдь не сокрушающе, Россия выходит победительницей из сражений, пронизанных страстным стремлением к тотальной победе (и нежеланием соглашаться на что-либо прочнее временного перемирия), которое прежде характеризовало только пограничные войны мусульман и христиан [396]. В войнах 1650 — 1660-х гг. вероисповедания уже ни малейшей роли не играли: русские дрались с русскими и использовали шотландских католиков-роялистов, чтобы нанести поражение католическому королю Польши. Тогда же католическая Франция воевала с католической Испанией; лютеранская Дания — с лютеранской Швецией; протестантская Голландия — с протестантской Англией. Когда наступило полное истощение, а военные действия перекинулись в такую даль, как Нью-Йорк, Бразилия и Индонезия, стабилизирующие силы начали восстанавливать порядок в континентальной Европе. К концу Войны за Испанское наследство в 1713 г. и Северной войны в 1721 г. в Европе воцарился относительный покой. Турки были укрощены, а между монархами установился мир — все они стремились удержать монополию на власть внутри своей страны и равновесие за ее пределами.
Заключительный иронический штрих: шведы, которые вначале втянули русских во «всеобщую войну», были наголову разбиты теми же самыми русскими в последней великой битве этой войны под Полтавой в 1709 г. Эта попытка Карла XII нанести поражение далеко превосходящим силам русских на далекой Украине, сговориться с еще более далекими казаками и турками, как-то странно гармонирует с героической нереальностью века. Стратегические перспективы «всеобщей войны» в Восточной Европе с начала и до конца отмечены каким-то барочным великолепием: от мечты Поссевино об обновленном католицизме, который через Россию достигает Индии и проникаете Китай, где заправляли иезуиты, — до фантастического русско-саксонского проекта на исходе века, согласно которому Москва заключила бы союз с Абиссинией, чтобы соединиться с Персией для крестового похода против турок, а затем, предположительно в союзе с протестантской Европой, сокрушить Рим [397].
Как и многое в искусстве барокко, проекты эти опирались на иллюзии, на невротическое желание увидеть невозможное. Реальность вселенской войны в Восточной Европе была даже еще более жестокой и страшной, чем Гражданская война в Англии или Тридцатилетняя война в Германии. Историки этих восточных областей так и не смогли найти нейтрально-описательные наименования для периодов особых ужасов и разрухи, которые последовательно выпали на долю их разных народов. Русские до сих пор с болью и смятением говорят о «Смутном времени», поляки и украинцы — о «Потопе», восточноевропейские евреи — о «Глубокой трясине», а шведы и финны — о «Великой ненависти» [398].
Военные удары извне сопровождались политическими и экономическими судорогами внутри по мере того, как цари укрепляли централизованную бюрократическую власть в своих владениях и налагали непосильное бремя на крестьянство. После, казалось бы, пика своего влияния рыхлые представительные собрания (русский земский собор, шведский риксдаг, польский сейм, еврейский Совет четырех земель и прусский штенде) все в конце XVII столетия внезапно рассыпались или утратили реальную власть. Аграрному обществу Восточной Европы навязывались новые псевдовоенные формы дисциплины, по мере того как «экономический дуализм» раскалывал нарождающуюся современную Европу на все более предприимчивый, динамичный Запад и крепостной, статичный Восток [399].
Нигде эти судороги не были более жуткими, чем в России XVII в. Массовые сдвиги населения и перемены в структуре общества происходили с ошеломляющей быстротой [400]. В Россию хлынули тысячи иностранцев; сами русские пролагали путь к Тихому океану; в городах вспыхивали бунты; крестьяне восставали, сторицей платя насилием за насилия; казаки и наемники предпочитали сражениям грабежи и массовую резню. Не будет преувеличением предположить, что на протяжении XVII столетия — в первые годы «Смутного времени» и Первой Северной войны соответственно — треть населения Великой Руси погибла на войне и от сопряженных с ней эпидемий и голода [401]. В шестидесятых годах XVII в. английский врач при царском дворе писал, что соотношение женщин и мужчин в окрестностях Москвы равно десяти к одному, а русские источники говорят о людоедстве на передовой линии и о волках в тылу — четыре тысячи их якобы бесчинствовали в Смоленске в лютую зиму 1660 г. [402]».
Не умея понять происходящие вокруг изменения, не говоря уж о том, чтобы справиться с ними, русские обратились к насилию и отчаянно цеплялись за формы и различия, уже утратившие смысл. Первый русский напечатанный свод законов — «Соборное уложение» 1649 года — был жестко иерархичным во всех частностях и санкционировал насилие, закрыв крестьянству все пути к избавлению от крепостной зависимости и введя телесные — вплоть до смертной казни — наказания за великое множество мелких проступков. Только кнут упоминается в этом своде 141 раз [403]. XVII в. был эпохой, когда прежние ответы устарели, однако взамен им еще не были отысканы новые. Неизбежное угасание старой Московии отлично выражают названия первых трех глав классического «Угасания средневековья» Иоганна Хайзенги: «Насилие как образ жизни», «Пессимизм и идеал жизни иной» и «Иерархическое понятие общества».
И Запад тоже не обрел ясного понимания, несмотря на все возрастающее число его солдат, врачей и умелых мастеров в Москве, а русских послов — за границей. Последние оскорбляли всех, постоянно требуя, чтобы длинные титулы царя произносили со всей полнотой и точностью, а их вездесущие и отнюдь не благоуханные телохранители тем временем срезали кожу с дворцовых кресел себе на обувь и оставляли следы экскрементов на стенах и полах. Западные путешественники старались превзойти друг друга рассказами о русской грязи, угодничестве и беспорядке, причем хватало подлинно комичных сцен, чтобы у западных наблюдателей сложился не аналитический, но чисто анекдотический подход к России. Голландского врача, который привез с собой в Москву флейту и скелет, чуть не растерзала толпа за попытку поднимать мертвецов из могил [404]; а во время Первой Северной войны английский врач был казнен, так как упоминание им «cream of tartar» (винный камень) было принято за выражение симпатии к крымским татарам [405]. Большинство западных авторов на протяжении XVII в. продолжали отождествлять русских с татарами, а не с остальными славянами. Даже в славянской Праге в книге, изданной в 1622 г., Россию наряду с Перу и Аравией отнесли к особенно необычным и экзотическим цивилизациям [406], а за год до того в относительно близкой и просвещенной Упсале была защищена диссертация на тему «Христиане ли русские?» [407].