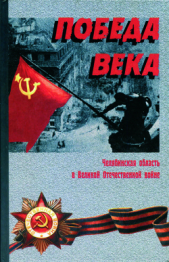Тяжело ковалась Победа

Тяжело ковалась Победа читать книгу онлайн
В повестях «Крест», «После войны», «Свой человек в столице», «Песня над озером» автор показывает трудовой и боевой вклад народа в Победу над фашизмом. В рассказах «Смертию смерть поправ», «Товарняки шли на проход», «Женихи» нарисована устойчиво сложная обстановка в стране. В годы Великой Отечественной войны гражданин и воин переживали за исход любого сражения, как за личную судьбу, ловя каждое слово сводки Совинформбюро, думая о близких, – волновались, находясь в одном сильно напряженном биополе страны. Все для фронта! Все для Победы! Это был один лозунг на все годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Все, – крутил цигарку председатель, – теперь подпишет. По доброй воле ей нечего отдавать. Она через силу будет платить». Я с удивлением посмотрел на него. Неожиданно Таисия встала в дверях. «Сколько?!» – спросила и зло уставилась на нас провалившимися глазами. «Да немного, – махнул рукой председатель – вроде бы делал ей уступку. – Как все».
Такая вот была добровольная подписка… Да оно и в городе подписывали скрепя сердце.
Зимой бабы потом сговаривались и с саночками отправлялись в город.
Однажды после собрания в одном колхозе я поехал в соседнюю деревню собирать людей на лесозаготовки. Председатель выделил мне ездового и одну из лучших лошадей. Уже вечерело. В окрестностях в ту зиму волки проказили. Кобыла еле шла. Парень поторапливал каурую. В санях у него палка ивовая лежала, чуть тоньше кола. Он несколько раз понукал лошаденку, но та не шевелилась. Тогда он взял дрын, огрел ее по костлявой спине со всего маху и дернул вожжами: «Но!» Бедное животное чуть-чуть шевельнуло хвостом, но не прибавило шагу. «Но!!! – еще громче прокричал парнишка. – Заиграла!..» На собрание я опоздал. Как он добрался обратно, я не знаю.
В декабре сорок седьмого прошла денежная реформа, карточки отменили. Кто-то кровные потерял, другие за махинации под суд пошли. Их так и называли – декабристы. В райцентре пекарня была, жена в райкомовском буфете хлеб покупала, а в деревнях учителя бедствовали: ни муки, ни хлеба. В больших городах все было, а в поселках – шаром кати. Это восстановление долго еще нам боком выходило. Не одно поколение горб гнуло, чтобы страна на ноги поднялась.
– Алексей Михайлович, вы не рассказали еще про Филиппа, сына Федора Семеновича.
– Да. Жизнь у Филиппа тоже по-своему сложилась. Он выделялся среди парней. И на вечеринки, бывало, ходил ровно гость. Девки к нему льнули. Он не то чтобы себя выказывал, а вот стать какая-то у него была. В наше время тоже не все так благодушно между парнями складывалось – иногда ведь и дрались… Молодость – она не без греха. И мы не сразу стариками-то стали, тоже пошаливали: в воротяно кольцо, бывало, навыколачиваем – мужики в исподних выбегут, ругаются, а мы спрячемся и со смеху покатываемся. На гулянке, бывало, не одного, так другого чуть не до слез задразнят – иногда и до кулаков дело доходило…
Невеста его в Нижних Матигорах жила – он туда и укатил. Не остался с отцом-то в Ленинграде. Город ли испугал, Настасья ли его не захотела – кто их знает. Отчаянный был. Все кресты с куполов спиливал – тогда немного было таких охотников. Платили, правда, ему хорошо. Такой активист стал – куда там!.. От своего отца, Федора Семеновича, отрекся. Правда, тогда многие так делали, чтобы на новый путь встать – судьбу свою построить. По радио воспевали Павлика Морозова – он отца родного не пощадил. Многие ведь с него пример брали, всем героями хотелось быть. Родителей по доносу сажали, а детей – по путевкам в Артек. Так вот еще делали. С малых лет доносительство разжигали, чтобы уж никто не укрылся. Вековой уклад семьи рушили, раздор в дом вносили.
– Да, так вот, – продолжал Алексей Михайлович, закинув удочку. – Никто и не думал, что Филипп первостатейным активистом станет, чище всякой голытьбы. И совесть у него была какая-то кабацкая – что угодно мог сотворить. В партию ведь его еще приняли за кресты да за коллективизацию. Везде выступал: на сходе, в сельсовете. И Настя такая же была пустомеля. Все она знала, все видела, не баба – граммофон. Бывало, столько наговорит, что лучше бы ее и не слушал…
Я в тот год на родину приезжал и случайно на его сороковины попал. Оказывается, он все эти годы пластом пролежал. Я мельком слыхал, но как-то не отложилось в памяти. Купаться он, бывало, любил наособицу: разбежится – и прыгает вниз головой с кручи. Такой форс у него был. А в ту весну вода высокая стояла, река разлилась – затопило всю округу, топляков нанесло. Летом он, как всегда, прискакал на колхозной лошади, бухнулся ныром – и что-то нет его и нет… Из реки-то уж мужики еле вытащили. Сильно, видать, головой обо что-то ударился. И обездвижил. С тех пор так пластом и пролежал – что-то не сорок ли лет…
И Настасье не пришлось пожить-покрасоваться, раз мужик покалечился. До этого тайком все погуливала, а как поняла, что надежды на выздоровление нет, кинулась в гульбу: какое уж тут стеснение?.. Хоть пора гулянок и прокатилась, но она все одно старалась ухватить счастье за хвост. Полюбовников с бутылками в дом к себе водила, чтобы по улицам не шататься, славу не разносить. Все на глазах у Филиппа происходило. Сделать-то он ничего не мог. Да и говорил уже плохо. Так вот и жили…
Мать ее, Авдотья Романовна, высокая большеносая старуха, помогала в меру сил. Ее в деревне так и звали – Носуха. Она уже давно на пенсии была. Хоть там и пенсия такая же – двенадцать рублей в месяц да литр молока в день, но все одно какие-то деньжонки. Почти сорок лет в колхозе обряжухой ходила, коров доила да телят поила. Заглянула: зять лежит, дочери нет, пошарила по полкам – пусто. Кое-чем покормила Филиппа, а тут и дочь явилась, язык заплетается. Взяла картошину, солью обсыпала – и в рот: жрать, видать, охота. Поллитровку они с соседом только и выпили, вторая на столе так и осталась с колбасой. Не успели даже закусить – жена нагрянула. Теперь облизывается. «Не хватай грязной пакшой!» – закричала в сердцах Авдотья. «Тебя еще тут не видели!» – дико зыркнула Настасья на мать, злясь в уме на свою соперницу, что та обсобачила всяко да еще и за космы оттаскала – затылок все еще горел. «Где ты это синяк опять поймала?» – накинулась мать. «Где, где? О грабли ударилась!» – отмахнулась Настасья. «Хватит, говорю! Нас не срами и себя на укор не ставь! Бесстыдница…» – поднялась Носуха. «Не учи жить!» – огрызнулась Настасья. За словом она никогда в карман не лезла. Опыт большой: когда-то по деревням агитатором разъезжала, людей от Бога отваживала, всяко тоже приходилось выкручиваться. При Хрущеве с образованием в райком да исполком набрали – тогда она уж ненужной стала. Ну и жила на пенсию мужа, пока свою не получила. Первое время в огороде ковырялась, а потом заскучала, заскучала и… гулять начала.
Бежит по улице – ее только и слыхать: наколоколит, хоть уши затыкай. Прибахвалить, бывало, любила, хлебом не корми. Не молодайка уж была, а туда же – с мужиками заигрывала.
Смолоду Бог ее красотой не обидел. Лицо, ровно белый снег, румянцем припорошено – вся в папочку родимого. А вот работать не научилась. И пол не вымоет, а только намажет, жалилась Авдотья, такая неряха… И деньги у нее не держались. Как заведется какой рубль, тут же напокупает конфет, печенья и чаевничает. Из рукомойника умываться начнет – столько начехает, хоть пол за ней мой! К порядку нисколько не привыкла. Двое всего и жили, а в доме – как в сарае. На словах она первая хозяйка, а приглядишься – ветреная баба, легостайка: все запущено, не ухожено…
Филипп под стать ей был – тоже спину не любил гнуть. Привык за чужой счет. Такой прощелыга – ничего своего не имел: не у одного, так у другого соседа все чего-нибудь выпрашивал. Так и жил. Совесть, видать, растерял, когда кресты спиливал да от отца отрекался, стыда-то вовсе не осталось. И Настасья от мужа недалеко ушла, умела класть стыд под пятку.
От работы оба бежали как черти от ладана, а жить мясисто хотели. В крови это у них сидело. Филипп очень матюгливый был – чуть что, сразу: «В Бога мать!»
Настасья в девках ходила щеголихой, когда мать да бабка наряжали. А вот сама стала хозяйничать, так в чем попало пошла. А уж как дролиться начала, так перед зеркалом останавливаться приходилось. Мужики, правда, сами повадку давали, которые падкие на это, ни на что ведь не смотрели, но она для форсу все же губы мазала. Да хоть бы и не мазала – чужие жены завсегда слаще.
Так случилось, что судьба подстерегла ее с мужиком, на которого никто и подумать-то не мог. Жена соседа на молокозаводе сепаратором заведовала, а в выходные отправлялась со «своим» маслом в Архангельск. Телевизор большой собирались купить. На окнах у них решетки стояли: воров побаивались.