Писатели и советские вожди
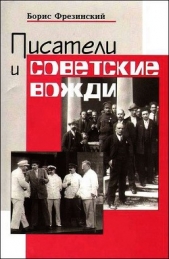
Писатели и советские вожди читать книгу онлайн
Историк литературы и публицист Борис Фрезинский — автор книг «Судьбы Серапионов», «Все это было в XX веке (заметки на полях истории)», «Илья Эренбург с фотоаппаратом»; биограф Ильи Эренбурга, публикатор и комментатор его сочинений, а также работ Н. И. Бухарина и других авторов; его перу принадлежат более 250 статей и публикаций по истории литературы и политической истории русского XX века. Новая документальная книга Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» основана на многолетних архивных изысканиях автора.
Книга историка литературы Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» насыщена неизвестными и малоизвестными историческими документами. Она позволяет читателю на конкретных примерах, избегая упрощенных схем и скороспелых выводов, увидеть, как в различные десятилетия советской истории по-разному складывались в стране, оставаясь неизменно сложными, неоднозначными и трагическими, индивидуальные судьбы писателей. А попутно — и как созданная в результате Октябрьской революции система привела к жесточайшей диктатуре Сталина, уничтожившей вождей революции — Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Радека…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Об этом «разговоре» он, зная опасную натуру Сталина и его методы, сказал Эренбургу. И тогда, 28 октября 1935 г., в московской гостинице «Метрополь» писатель сочинил свое второе письмо вождю:
т. Бухарин передал мне, что Вы отнеслись отрицательно к тому, что я написал о Виноградовой. Писатель никогда не знает, удалось ли ему выразить то, что он хотел. Напечатанные в газете эти строчки о Виноградовой носят не тот характер, который я хотел им придать. Не надо было мне этого печатать в газете, не надо было и ставить имя действительно существующего человека (Виноградовой). Для меня это был клочок романа, не написанного мной, и в виде странички романа, переработанные и, конечно, измененные, эти строки звучали бы совершенно иначе. Мне хочется объяснить Вам, почему я написал этот рассказ. Меня глубоко взволновала беседа с Виноградовой, тот человеческий рост, то напряжение в работе, выдумка, инициатива и вместе с тем скромность, вся та человечность, которые неизменно меня потрясают, когда я встречаюсь с людьми за последнее время. Но все это подлежит обработке, должно стать страницами книги, а не быть напечатанным на газетных столбцах.
Мне трудно себе представить работу писателя без срывов. Я не понимаю литературы равнодушной. Я часто думаю: какая в нашей стране напряженная, страстная, горячая жизнь, а вот искусство зачастую у нас спокойное и холодное. Мне кажется, что художественное произведение рождается от тесного контакта внешнего мира с внутренней темой художника. Вне этого мыслимы только опись, инвентарь существующего мира, но не те книги, которые могут жечь сердца читателей. Я больше всего боюсь в моей работе холода, внутренней незаинтересованности. Вы дали прекрасное определение всего развития нашего искусства двумя словами: «социалистический реализм». Я понимаю это, как необходимость брать «сегодня» в его развитии, в том, что имеется в нем от «завтра», в перспективе необыкновенного роста людей социалистического общества. Поэтому мне больно видеть, как словами «социалистический реализм» иногда покрывается натурализм, то есть восприятие действительности в ее неподвижности. Отсюда и происходит тот холод, то отсутствие «сообщничества» между художником и его персонажами, о которых я только что говорил.
Простите, что я отнимаю у Вас время этими мыслями, уходящими далеко от злополучной статьи. Если бы я их не высказал, осталось бы неясным мое писательское устремление: ведь в ошибках, как и в достижениях, сказывается то, что мы, писатели, хотим дать. Отсутствие меры или срывы у меня происходят от того же: от потрясенности молодостью нашей страны, которую я переживаю, как мою личную молодость. То, что я живу большую часть времени в Париже, может быть, и уничтожает множество ценных деталей в моих наблюдениях, но это придает им остроту восприятия. Я всякий раз изумляюсь, встречаясь с нашими людьми, и это изумление — страсть моих последних книг. Мне приходится в Париже много работать над другим: над организацией писателей, над газетными очерками о Западе, но все же моей основной работой теперь, моим существом, тем, чем я живу, являются именно это волнение, это изумление, которые владеют мною, как писателем.
Я вижу читателей. Они жадно и доверчиво берут наши книги. Я вижу жизнь, в которой больше нет места ни скуке, ни рутине, ни равнодушью. Если при этом литература и искусство не только не опережают жизнь, но часто плетутся за ней, в этом наша вина: писателей и художников. Я никак не хочу защищать двухсот строчек о Виноградовой, и, если бы речь шла только об этом, я не стал бы Вас беспокоить. Но я считаю, что, разрешив т. Бухарину передать мне Ваш отзыв об этом рассказе (или статье), Вы показали внимание к моей писательской работе, и я счел необходимым Вам прямо рассказать о том, как я ошибаюсь и чего именно хочу достичь.
«Работа над ошибками» выглядела убедительно, но этого было мало.
О недовольстве вождя статьей Эренбурга стало известно в ЦК и в близких к нему кругах. В отделе печати ЦК московскими выступлениями Эренбурга по вопросам искусства были крайне недовольны, Противники, завистники писателя давно ждали случая разделаться с парижским, как они считали, счастливчиком. Остановить их могло только одно: опасение, что вождь их не поддержит. Положение Эренбурга оставалось неопределенным, и он решил повести разговор со Сталиным без обиняков. В этом был безусловный риск, но, как говорится, кто не рискует, тот не выигрывает, и Эренбург написал:
Мне особенно обидно, что неудача с этой статьей совпала по времени с несколькими моими выступлениями на творческих дискуссиях, посвященных проблемам нашей литературы и искусства. Я высказал на них те же мысли, что и в письме к Вам: о недопустимости равнодушья, о необходимости творческой выдумки и о том, что социалистический реализм зачастую у нас подменяется бескрылым натурализмом. Естественно, что такие высказывания не могли встретить единодушного одобрения среди всех моих товарищей, работающих в области искусства. Теперь эти высказывания начинают связывать с неудачей статьи и это переходит в политическое недоверие. Я думал, что вне творческих дискуссий нет в искусстве движения. Возможно, что я ошибался и что лучше было бы мне не отрываться для этого от работы над романом. <…> [414]
Мне говорят, что на собрании Отдела печати Цека меня назвали «пошлым мещанином». Мне кажется, что этого я не заслужил. Еще раз говорю: у каждого писателя бывают срывы, даже у писателя, куда более талантливого, нежели я. Но подобные определения получают сразу огласку в литературной среде и создают атмосферу, в которой писателю трудно работать. Я слышу также, как итог этих разговоров: «Гастролер из Франции». Я прожил в Париже 21 год, но если я теперь живу в нем, то вовсе не по причинам личного характера. Мне думается, что это обстоятельство мне помогает в моей литературной работе. Я связан с движением на Западе, мне приходится часто писать на западные темы, я часто также пишу о Союзе для близких и в органах <печати> в Европе и в Америке, сопоставляя то, что там, и то, что у нас. С другой стороны — об этом я писал выше — ощущение двух миров и острота восприятья советской действительности помогают мне при работе над нашим материалом. Наконец, я стараюсь теперь сделать все, от меня зависящее, чтобы оживить работу, скажу откровенно, вялой организации, которая осталась нам от далеко не вялого конгресса. Все это, может быть, я делаю неумело, но ни эта моя работа, ни мои газетные очерки о Западе, ни мои последние два романа о советской молодежи, на мой взгляд, не подходят под определение «гастролера из Франции».
Я не связывал и не связываю вопроса о моем пребывании в Париже с какими-либо личными пожеланиями. Если Вы считаете, что я могу быть полезней для нашей страны, находясь в Союзе, я с величайшей охотой и в самый кратчайший срок перееду сюда. Я Вам буду обязан, если в той или иной форме Вы укажете мне, должен ли я вернуться немедленно из Парижа в Москву или же работать там. Простите сбивчивую форму этого письма: я очень взволнован и огорчен…
Резолюция Сталина на этом письме: «Т. Молотову, Жданову, Ворошилову, Андрееву, Ежову» означала, что расчет Эренбурга полностью оправдался — члены Политбюро, включая тех, кто занимался «руководством» писателями, были проинформированы о письме Эренбурга и тем самым о том, что «инцидент исчерпан». В середине декабря 1935 г. Эренбург благополучно отбыл из СССР…
29 января 1936 г. отмечалось 70-летие Ромена Роллана; 31 января Международная ассоциация писателей провела в Париже торжественное заседание, и Эренбург активно участвовал в его подготовке. Бухарин, высоко ценивший Роллана и написавший к его приезду в СССР статью «Мастер и воин культуры, сын человечества» [415] решил дать в газете подборку материалов к юбилею писателя (он и сам написал еще одну статью о Роллане — «Горные вершины» [416]). 14 января Эренбург сообщал Мильман: «Получил телеграмму от Б<ухарина> о Ромене Роллане. Сделаю все возможное, хотя поздновато сообщили. Сам писать не буду». По просьбе Эренбурга о Роллане для «Известий» написал Жан Геенно (через какое-то время Л. М. Козинцева-Эренбург просила в письме Мильман «взять в Известиях гонорар Guehenno за статью о Ромэн Роллане и послать ему по адресу книгу о Музее западной живописи» [417].
























