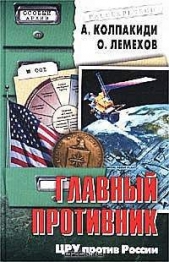Икона и топор

Икона и топор читать книгу онлайн
Эта книга представляет собой истолкование истории русской мысли и культуры нового времени. В ней воплотились знания, размышления и сфера интересов одного исследователя. У автора не было иллюзий относительно тех задач, которые он перед собой ставил: книга меньше всего претендует на то, чтобы явить энциклопедический свод русского культурного наследия или снабдить читателя «ключом» к его пониманию. Здесь произведен отбор материала, который призван не просто обобщить то, что уже и так хорошо известно, но ввести в оборот новые факты и дать им объяснение: не столько «охватить» эту необъятную тему, сколько обозначить подступы к ней.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Максим не проявляет почти никакого интереса к рычагам правления или возможности практических реформ, но он испытывает сострадание к угнетенным и скорбь за богатых Московского государства. Он убежден: «Не столько печалится сердце матери о детях, терпящих лишение житейских потребностей, сколько душа благочестивого царя печется об утверждении и мирном благоустроении любимых ею подчиненных» [318]. Каковы бы ни были ее грехи, Россия вовсе не тирания вроде той, что установили татары. Она исполняет на Востоке святую христианскую миссию, вопреки всем напастям извне и внутренней коррупции.
К концу своей жизни и в первые годы правления Ивана IV Максим переносит образ падшей церкви, представленный у Савонаролы в «De ruina ecclesia», на образ пришедшей в упадок Российской империи. Максим описывает, как в своих странствиях он повстречал на пустынной тропе плачущую женщину в черном, окруженную дикими зверями. Он умоляет ее открыть свое имя, но она отказывается, утверждая, что он не властен утолить ее печаль и лучше ему будет пройти мимо, не обращая на нее внимания. Наконец она сообщает, что ее истинное имя — Василия (от греческого «Вasilеіа» — «Империя») и что ее осквернили тираны, у которых «о Святой Церкви Христовой <…> нет <…> никакого радения», и покинули ее же «поборники» и «ревнители», какие были прежде: «<…> не справедливо ли уподобляюсь я вдовствующей жене, и сижу при пустынном пути настоящего окаянного века?» [319].
Здесь, по сути дела, высказана идея «Святой Руси» — смиренной и страждущей, однако всегда сострадательной; жена и мать, преданная «мужу» и «детям», правителю и подданным России, даже когда она оскорблена и покинута ими. Подхваченная Курбским, учеником Максима [320], и впервые повсеместно воспринятая в бедственный период начала XVII столетия [321], концепция «Святой Руси» как идеала, противопоставленного механистическому и бесчувственному государству, впервые была сформулирована именно Максимом.
В то же время Максим совместил исихастский идеал непрерывной молитвы помимо уставных рабочих служб с гуманистическим идеалом единой истины вне исторических истин христианства. Он умолял своих читателей непрестанно молиться за то, чтобы обидчики Церкви «отстали от всякого зла и всякой неправды и восприяли бы правду» [322]. Для Максима слово «правда» уже частично несло в себе тот же двойной смысл, подразумевающий и философскую, и социальную справедливость, который в нем ощущали последующие российские реформаторы. Максима, как и многих из них, часто обвиняли в подстрекательстве к мятежу, и умер он фактически в заключении.
Максима после его смерти (как до него — Нила Сорского) постепенно стали почитать официально за ту самую набожность, которая при его жизни так тревожила официальную церковь и которую последняя стремилась ввести в русло своих установлений [323]. Но его попытки заквасить идеологию Московии гуманистическими идеалами провалились. Архимандрита Свято-Сергиевой лавры Артемия, являвшегося просвещенным последователем Нила и преданным покровителем Максима, собор 1553–1554 гг. сослал в Соловки за ересь. Позднее Артемий, как и ученик Максима Курбский, сбежал в Польшу; оба они сохранили верность православию, но отказались от всяких попыток совместить идеологию Московского государства с гуманистическими идеалами.
Максим отказался принять участие в соборе 1553–1554 гг., как и Нил воспротивился осуждению и наказанию «жидовствующих». Когда в 1556 г. Максим скончался в Свято-Сергиевой лавре, с московской сцены сошел последний влиятельный защитник терпимого христианского гуманизма. Велась подготовка к всесторонней атаке на зарубежное культурное влияние. На ближайшего царского светского советника, Ивана Висковатого, было наложено суровое наказание за выступление против строгого запрета на чуждые заимствования в иконописи. Вспышке кратковременного интереса к искусству Ренессанса, проявленной Селиверстом, исповедником Ивана (который приказал псковским художникам обеспечить Москву копиями картин Чимабуэ и Перуджино), тоже был положен конец [324]. Интерес к изысканной полифонической музыке Палестрины (пробужденный в 1524–1525 гг. Дмитрием Герасимовым, другом и помощником Максима в переводах с латинского, во время дипломатической поездки в Рим) тоже был подавлен решением Ивана утвердить господствующую систему церковных песнопений как единственную форму надлежащего восхваления Бога в русских церквях [325]. И наконец, что представляется самым главным, работа по переводу священных текстов была отобрана у критически настроенных и лингвистически одаренных людей, таких, как Максим, и передана невежественным, но зависимым царским слугам. Иосифлянские монахи из окружения Ивана предпочитали рациональному упорядочению идей пространные конспекты. Неприятие критического отношения к текстам распространилось даже на книгопечатание как средство пропаганды веры и распространения священных книг. Неудачная кратковременная попытка белоруса Ивана Федорова основать в Москве государственную книгопечатню закончилась в 1565 г. катастрофой: его книгопечатный станок уничтожила толпа, а сами печатники бежали в Литву [326]. Это был год бегства Курбского и установления опричнины. В воздухе витали новые ксенофобские настроения, и время относительно гармоничного и скромного общения с многосторонней культурой итальянского Возрождения уступало дорогу более широкой и сокрушительной конфронтации, которая началась в последние годы правления Ивана.
Главным итогом столетия прерывистых итальянских влияний стала возросшая подозрительность в отношении Запада. Эти настроения преобладали в монашеской среде, чей авторитет был на подъеме, и неуклонно преобразовывались во враждебность по отношению к Римской Церкви. Антикатолицизм официальной Московии приводит в недоумение, поскольку составляющие культуры Ренессанса, которых больше всего боялись иосифляне — астрология, алхимия, социальные утопии, философский скептицизм и антитриипостасная, против обрядов направленная теология, — находились в оппозиции также и к Римской Церкви. Частично, конечно, антикатолицизм был просто развитием раннего протеста квиетистов против набегов схоластики на позднюю Византийскую империю. Максим Грек оставался верным своим учителям с Афона, когда наставлял русских: «…латиняне поддались на обольщения не только эллинских и римских доктрин, но даже иудейских и арабских писаний… попытки примирить непримиримое принесли беды всему миру» [327].
Однако чтобы до конца понять, почему ненависть была направлена в основном против Римской Церкви, нужно учитывать как природу культуры Московского государства, так и постоянное ее стремление судить другие культуры с собственной колокольни. Поскольку Московское государство было органической религиозной цивилизацией, то и Западной Европе надлежало быть тем же. Поскольку вся культура Восточной России была самовыражением Русской Православной Церкви, то и приводящее в недоумение культурное разнообразие Запада было не иначе как самовыражением церкви Римской, независимо от формального отношения последней к этой ситуации. Слово «латинство» сделалось термином для обозначения Запада в целом, и выражение «податься в латинство» приобретало смысл «податься к дьяволу». К середине XVI в. царь просил подвижника молиться об избавлении России от «латинства и бесерменства» — от латинского и мусульманского миров, а словами, призванными подчеркнуть различие между русскими и жителями Запада, были «христианин» и «латинянин» [328]. Так как политическое руководство на христианском Востоке было сосредоточено в руках царя «третьего Рима», считалось, что на Западе таковое сосредоточено в руках императора Священной Римской империи — кесаря. Прочие правители и князья Запада приравнивались к менее значительным, зависимым русским князьям. Их дипломатические переговоры велись на новом жаргоне, «канцелярском языке», ставшем основой для современного русского, тогда как послания и письма от императора, составленные в основном на латыни, переводились на церковнославянский [329].