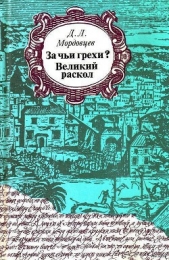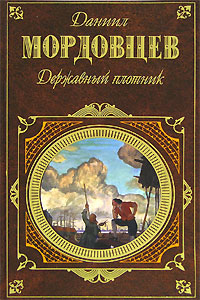Видение в публичной библиотеке

Видение в публичной библиотеке читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
_______________
* Гудон сделал (работа Гудона) (лат.).
** Истинное изображение (портрет) кота великого князя
Московского (фр.).
"Здравствуй, киця. Как ты терся и мурлыкал около державных ног "Тишайшего"? Хорошо ли исполнял свою службу, хорошо ли ловил в царском терему мышек, не щадя живота своего? А может, и воробышков ловил вопреки государевым указам? И по крышам гулял с дворскими кошечками? А служил ли ты верою и правдою, без мечтанья, благоверному государю и великому князю Федору Алексеевичу? Ведь этот портрет снят с тебя как раз в год рождения этого царевича, и ты, верно, играл с ним в его колыбельке. А дожил ли ты, старый кот, до рождения благоверной царевны Софьи Алексеевны и благоверного царевича Петра Алексеевича?"
Глубоко задумалась седая борода, стоя у витрины с котиком. Ведь и портрет исторической зверушки способен навести на серьезные исторические размышления: для историка все, всякая тряпка от прошлого, портрет кота, все это материал, как для геолога зуб мамонта.
Тень от здания библиотеки растет и тянется все дальше, дальше. Бьет восемь часов.
Кто ж это смотрит так величаво на задумавшуюся седую бороду? Это она, великая Семирамида Севера. Во весь свой царственный рост выступает она из золотой рамы. Величаво поставил ее на своем полотне даровитый художник. Около нее жертвенник с горящим над ним огнем. Около нее книги, следы ее царственных работ и дум. Атласное тяжелое белое платье, кажется, скрипит у нее на высокой груди от дыхания. Горностаевая мантия небрежно спущена с плеч и тянется по ковру.
Что выражает ее неуловимая улыбка? А то, что она умнее всех, могущественнее и, как женщина, хитрее. Значит, была хитра, коль одурачила этого мраморного старика, этого злюку, ядовитого язычка которого боялась вся Европа. Храповицкий наивно записал в своем "Дневнике" эту ее ловкую проделку под 6 февраля 1791 года: "Австрийцы за нас не вступятся, говорила Семирамида Севера Храповицкому в то время, когда тот занимался "до поту перлюстрацией", - им обещан Белград от пруссаков, кои с согласия Англии берут себе Данциг и Торунь. Я послала письмо к Циммерману в Ганновер по почте, через Берлин, дабы через то дать знать прусскому королю, что турок спасти он не может. Я таким образом сменила Шуазеля, переписываясь с Вольтером"*.
_______________
* Дневник Храповицкого, изд. Барсукова, 357.
Чисто женская проделка! Ловкая Семирамида знала, что и Фридрих-Вильгельм Прусский занимается в Берлине, как и она сама в Петербурге, "перлюстрацией" чужих писем и непременно прочитает ее коварное письмо к Циммерману, как и в Париже, прежде, читали ее письма к Вольтеру. А мудрый философ думал, что она пишет ему лично: нет, ей хотелось свалить Шуазеля этим письмом, и она свалила его.
В другом месте, под 5 августа того же года, у Храповицкого записано: "В продолжение разговора я напоминал государыне о смене Шуазеля перепискою с Вольтером, и что ныне по корреспонденции с Циммерманом сменили Герцберга. "И в п р я м ь т а к, - изволили сказать, - я и з а б ы л а".
Где же помнить всех, кого вы провели и вывели!
Седая борода постояла перед портретом, постояла, покачала задумчиво головой и снова присела к столу, где лежала большая старая книга с жесткими пожелтевшими листами. И опять та же невозмутимая могильная тишина и те же слабо доносящиеся извне отзвуки жизни, замирающий стук экипажей, замирающий в воздухе глухой звон далекого колокола.
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он...
Далекою стариною, молодостью повеяло от этого стиха, словно от засохшего и полинялого лепестка розы в пожелтевшем от времени альбоме.
А эти книги на полках, массы книг, это же засохшие лепестки жизни, следы дум, страданий, счастья: это стоят на полках высушенные человеческие головы, сердца и остовы покойников.
Седая борода, отодвинув от себя книгу, откинулась на спинку кресла и задумалась. Ни над чем так хорошо не думается, как над умной книгой.
Но что это, как будто стукнуло там, в той половине залы, где сидит мраморный старик? Нет, это не так, это треснул на полке где-то пересохший переплет книги.
Стук повторился. Как будто скрипнула шашка паркета, другая: и паркет пересох, как кожаный переплет книги.
Слышатся как будто шаги в "Россика". Но это, конечно, сторож. Нет, сторож спит.
Что же это? Шаги приближаются, медленные тяжелые шаги. Да, кто-то идет.
Седая борода оглядывается туда, откуда приближаются шаги. Что же это такое! Происходит что-то непостижимое, страшное...
Это идет мраморный старик, что сидит в мраморном кресле. Не может быть, чтобы это был он - мрамор не может ходить. Но нет, он идет: полы мраморной мантии шевелятся; ноги в мраморных сандалиях передвигаются мерно и медленно, как старческие ноги вообще; голова старика заметно трясется, плотно сжатые губы беззвучно шевелятся и безжизненно-мраморные глаза светятся жизнью - они устремлены вперед, туда, где в золоченой раме стоит у пылающего жертвенника Семирамида Севера с опустившеюся с плеч горностаевою мантией.
Что же это такое? Не бред ли расстроенного воображения? Не сон ли? Нет, вон голуби по-прежнему воркуют за окном и шуршат о карниз крыльями; с Невского доносится глухой гул удаляющихся экипажей; все тот же вечерний звон доносится издалека и точно тает в воздухе.
Зашуршало что-то вправо, и словно стена дрогнула. Это дрогнула золотая рама, задрожало полотно, и от него медленно, неслышно отделилась женщина в горностаевой мантии: она вышла из полотна и как тень сошла на пол, шурша складками атласного платья.
Вот она двигается, волоча за собою горностаевую мантию. На лице все та же приветливая, но загадочная улыбка.
И мраморный старик, и женщина в горностаевой мантии сближаются, идут навстречу друг другу. И лицо мраморного старика скривилось улыбкой. Опущенные руки поднимаются и почтительно складываются у сердца, дрожащая голова низко наклоняется.
- Ah! C'est vous, mon philosophe!* - слышится тихий ласкающий голос.
- C'est moi, madame! C'est moi, qui salue la grande Semiramis du Nor**, - шепчут мраморные губы.
- Какая счастливая встреча! Что привело вас в мое скромное царство? А меня еще так огорчило было ваше письмо к князю Голицыну, в котором вы писали обо мне: "Ou est Ie temps, que je n'avais que soixante et dix ans? J'aurais couru l'admirer! Ou est Ie temps, que j'avais encore de la voix! Je l'aurais chantee sur tout Ie chemin du pied des Alpes a la mer d'Archangel!"***. А теперь вы пришли ко мне, как я рада!