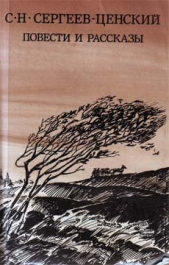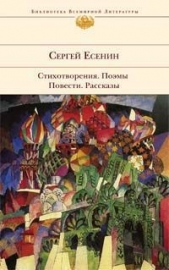Бабаев

Бабаев читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сергеев-Ценский Сергей
Бабаев
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Бабаев
Роман
СНЕЖНОЕ ПОЛЕ
I
Из окон комнаты, в которой жил поручик Бабаев, были видны неровно закутанные в мягкий снег кусты шиповника, серый забор с полосами снега вдоль досок и синие тени на снегу. Когда он взглядывал в окно и тут же отводил глаза, то ярко стлалось перед ним ослепительно белое с извилистой синевой и стояло долго и нагло, широко раздвинув стены.
А когда он вслушивался, чуткий, то казалось, что далеко где-то скучный кто-то раскачал очень длинную и очень тонкую узкую полоску стали. Полоски этой не было видно; но мимо медленно ползли душные звуки качаний, похожие на змеиные кольца.
Можно было забыться на время, можно было о чем-то мечтать, чему-то радоваться и удивляться, но это было линючее, как краски на воде: краски загораются, борются, гаснут, а вода под ними внизу остается одна и та же черная для всех извилин дна, плотная, немая.
Стоило только вслушаться, и из глаз выпадала радость и смешно было чему-то удивляться. Тишина утр вливалась в шумливую сутолоку дней так широко и прочно, как будто не было никакой разницы между шумом и тишиною.
Вырастала уходящая вниз длинная лестница из дней, о которых никак нельзя было сказать: "Прожиты". Они "проходили" вблизи, чуть задевая за плечи, и по ночам, когда мигала свечка, отчетливо видно было: зигзагом шли все одинаковые, плоские ступени, и опускалась на шаг вниз новая, такая же гладкая ступень.
Чуть слышно гнусаво тикали под подушкой карманные часы, точно служили панихиды по дню, который мог бы быть, но ничем не был отмечен, как вымытый начисто литографский камень.
Хотелось встать и смеяться - долго, громко, злобно, но на рождавшийся смех вскакивала маленькая холодная мысль: "А завтра будет тоже такой же день!" Холодная мысль, противная, как цинический хохот, озиралась кругом, ища новых дней, и медленно добавляла: "И послезавтра!"
Между лопаток от шеи ползла мелкая дрожь.
Над самыми окнами повис ряд сизых рубчатых сосулек, тускло глядевших в комнату. Дул ветер временами, и под ним, тяжелым, жалобно плакали ставни.
II
Доктор жил в доме напротив, стриженый, низенький старик с длинными ушами. По утрам он выходил на балкон и, обернувшись к востоку, читал по книжечке молитвы. Черный сеттер Бабаева, Нарцис, на него лаял. Лаял вяло: ударит несколько раз в широкий колокол пасти и отойдет, зевая, - привыкал уже.
Сапожник Безверхий гонял голубей сбоку за сараем. Видно было только грязную тряпицу на шесте, влажную на сухом небе, да белые блестки крыльев. Его свист в два пальца тоже был виден: круглый, извилистый, длинный и острый на конце, как кнут. Гонялся за турманами в небе, жалил, не давал покоя; и, бросаясь от него стремглав, они кувырком падали вниз, вздыбив перья.
Хозяин дома, псаломщик, за тонкой стеною пел ирмосы и подыгрывал на дрянной скрипке. Сплетались два голоса: низкий и плоский, тонкий и визгливый, и выходило у обоих: "Коня и всадника вверже в мо-о-ре!" Звуки пахли чем-то - свечами, ладаном, - и хотелось отворить окно.
От дома к кухне, где помещался денщик Гудков, и от кухни в дом проходила по двору животом вперед беременная жена псаломщика - пестрый платок на голове, а лицо молодое, виноватое, серое, в желтых пятнах.
Иногда слышно было, как вздорил с нею Гудков:
- Что, удостоверилась?.. Юстрицы у тебя под носом воют!..
- Да ты что это со мною так обращаешься, болван?
- А што ж ты, барыня?.. Хоть бы што-нибудь, хоть бы как, а то ништо, никак... Таких барынь-то - пруды пруди!..
- Холуй ты этакий!
- Я-то на коленках черта обогнал, обо мне не думай!.. Почище вашего жили.
Бабаев отворял форточку и кричал:
- Ты что это там, негодяй, скотина!.. Я тебе дам! - Потом думал о высоком животе псаломщицы, становилось противно - одевался и уходил из дома.
III
В офицерском собрании играли в "дурака с Наполеоном". Было четырнадцать рангов дурака, пять колен Наполеона и Наполеон. Играла канцелярия полка: заведующий хозяйством, казначей, два адъютанта. Нужно было двадцать раз оставить дураком кого-нибудь одного. Этот один становился Наполеоном. Сделать это было трудно: начали играть в сентябре, теперь шел декабрь - не могли кончить.
В соседней комнате играли в макао. Игра была шумная, злобная, радостная. Много курили и пили пива, противно бросали на стол деньги, ругались.
Двое завсегдатаев бильярдной - капитан Балеев и поручик князь Мачутадзе - разбивали пирамиду за пирамидой. Кто-то сказал о них с чувством: "Спят на бильярде!", вышло смешно, но низкий потолок над зеленым сукном не улыбнулся.
В читальне одинокий капельмейстер, престарелый чех, которого больно хлопали по плечу и ласково звали "капельдудкой", сидел за газетами.
"Рота, смирно!.." Каждый день он слышал эту команду. Когда входил в казарму он, для него кричал это фельдфебель Лось; когда входил ротный, для него кричал это он, Бабаев. И было такое правило дисциплины, чтобы по этой команде каменели люди: вздергивались головы, выскакивали из орбит глаза, застывали руки в рукавах одинаковых мундиров - точно на всех сразу брызгали мертвой водой или дули особым газом, напитанным микробами столбняка. С ними здоровались всегда одними и теми же словами, и всегда одними и теми же словами должны были отвечать они. Никто и никогда не ждал от них других слов, как, берясь за ручку звонка, никто не ждет сонаты или молитвы. Потом нажимали на них, как на клавиши, звуками команд, и никто не ждал, что они сделают что-нибудь не то, что должны были сделать по уставу. И лица у всех казались одним, непомерно вытянутым в стороны тупым лицом.
Казарма была огромная, окнастая - тысяча пудов над головой. В толстые стены всосалось насилие, и чудилось, что это оно выступает на штукатурке в пятнах плесени.
А за казармой шел широкий плац, утоптанный шагавшими под барабан ногами.
Он тоже казался казармой, только выше, светлее. Небо лениво висело над ним, как синий потолок, и давило.
И когда на земле громко кричали: "Раз!" - небо отзывалось: "Два!"
IV
Были сумерки, когда окна красны.
Хлопали ставнями; снег хрустел под ногами. На тротуар с деревьев падал иней.
Бабаев остановился, подумал: "Не стоит заходить... зачем?" Но в освещенном окне мелькнула знакомая прическа, и он вошел.
Когда раздевался в прихожей и смотрел на частые медные крючки вешалки, то тоже думал: "Притащился, а зачем? Что за глупость!"
Лидочка Канелли была одна. Куда-то на карты ушел ее отец, отставной подполковник. Если бы он был здесь, то хохотал бы, ерзая красным лицом, рассказывал бы одни и те же анекдоты, пил бы водку.
Лидочка села за пианино, играла что-то. Он не слушал - что, смотрел на ее профиль и думал: "Вот эта линия, которой никогда не было раньше и которая никогда больше не повторится; через полгода, может быть, через месяц, может быть, завтра даже, это будет совсем другая линия, непременно скучная и тупая".
Бабаев чувствовал, что если он что-нибудь любил теперь, то любил он именно эту тонкую линию профиля, прядку волос надо лбом, матовую кожу лица. Но почему-то смешно было сказать это даже самому себе отчетливо и просто.
Ждала мужа - ждала трогательно и нежно, это видел Бабаев. Не играла, искала чего-то на клавишах - какую-то старую тропинку к алтарю и детской.
Еще несколько человек молодежи: два студента, военные, один чиновник, запросто бывали в доме. Каждого хотела понять, с каждым говорила особо то о музыке, то о театре, то о курсах; с военными ребячилась, играла в почту, хохотала. Бабаева не могла разглядеть: что-то притаилось темное; шла к нему ощупью - это чувствовал он; то становилась мечтательной, странной, то говорливой, веселой, то вдруг, проходя, касалась его выпуклой грудью и лукаво извинялась краснея.
Звуки зыбкие, матовые. Бегут куда-то один за другим - нельзя связать. Фикус в углу; свесил глянцевитые листья, как уши; слушает.